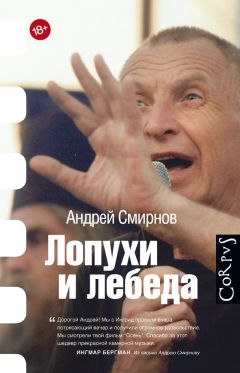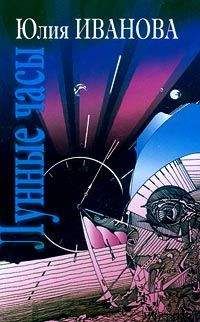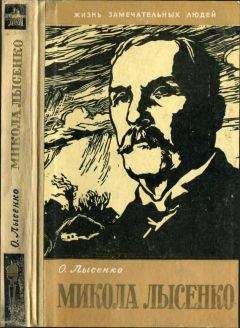Ознакомительная версия.
Свою профессиональную карьеру я считаю неудавшейся, хотя это и не повод для нытья. В те же годы я жил, любил, рожал детей, пил водку с друзьями. Кланяюсь всем, кто был ко мне щедр и терпелив – Илюше Авербаху, Юлику Дунскому, Вадику Трунину, увы, уже покойным, и, слава тебе господи, живым Валерию Фриду, Наташе Рязанцевой, Шуре Червинскому, Толе Гребневу. “Что пройдет – то будет мило”. Потому мила мне моя неудача. Второй попытки все равно не дадут.
1993
Мы сидим и смотрим на дверь. В коридоре прекращается беготня, смолк трезвон. Мы ждем.
– Крыса! – сообщает Гордей, отскакивая от двери.
Мы слышим быстрые шаркающие шажки. Дверь вздрагивает. Это Крыса налетела на нее с разгона и теперь недоумевает.
Стул, вставленный в дверную ручку, начинает ходить ходуном. Мы следим за единоборством Крысы с дверью. Чаша весов постепенно склоняется на сторону Крысы. Стул перекосило, Гордею приходится его поправлять. Неожиданно стул разваливается у него в руках, и Гордей сталкивается нос к носу с Крысой.
Мы встаем. Крышки парт дают залп.
– Гордеев – за матерью! С портфелем.
Она ждет, пока он покорно складывает манатки. Гордей выходит.
– Что-нибудь бы новенькое придумали… Сядьте и встаньте, как полагается.
Встаем еще раз. Получается даже лучше – дружней и звонче. Кажется, стены рухнут.
– Я вижу, вы настроены по-боевому. Кто дежурный?
У нас даром ничего не пропадает. Без промедления отвечают:
– Гордеев!
– Зуев! Сходи в учительскую, принеси мне стул.
И в ожидании прохаживается вдоль доски.
Крысу голыми руками не возьмешь.
Узкие губы с опущенными углами придают ей презрительное выражение. Прозвище ей известно, но тут она бессильна. Школа не знает промахов в кличках. Наши родители, знакомясь с ней, прячут улыбки – вылитая крыса.
Копейка приносит стул.
– Староста, кто отсутствует?
Староста Сальников сопит, оглядывая нас.
– Кто отсутствует, я спрашиваю?
– Филатов… Ну и Гордеев.
– Что с Филатовым?
– Ой, Анна Михална… – вылезает рыжий Пиня, и Крыса косится на него.
– Что? Хворает?
Пиня медлит. Мы стоим тихо.
– Его крысы съели!
Удержаться от смеха невозможно.
– Пинчук, вон из класса!
– А чего я сделал?
– Поторопись…
Пиня, вскинув на плечо противогазную сумку, идет к двери и так ею хлопает, что сыплется штукатурка.
С поразительной быстротой Крыса взлетает со стула. В ее расплывшемся теле скрыта подвижность грызуна.
– С родителями, к директору! И пока мать не заплатит за дверь, можешь не являться! Рублем наказывать будем!
Ее тонкий высокий голос раскатывается в пустом коридоре.
Она подбирает осколки известки, заворачивает в бумажку, прячет и хлопает себя по бедру:
– Будем бить по карману родителей!
И с ненавистью смотрит на заднюю парту – туда, где, привалясь к стене, возвышается Бадя, огромный, краснорожий, угрюмый. Его широкую плоскую физиономию освещает бронзовый фингал.
– Садитесь.
Даже учителя боятся Бадю.
Из рыжего бесформенного портфеля она достает бесчисленные листочки, раскладывает свой пасьянс. Некоторое время она молчит, вглядываясь в свои каракули. Записи ее не интересуют. Она просто набирается сил.
– Что вам было задано? Берг!
– Стих про школьников.
– Не паясничай, Берг. Иди отвечать.
– Книжку потерял, Анна Михална.
– Надо было прийти пораньше и выучить.
Черные живые глаза Берга смеются. Он огорченно разводит руками.
– Садись, двойка. Хлюпин!
Она уже понимает, что ее ждет.
– Не учил.
– Двойка. Данильянц!
– Не выучил.
– Двойка… – И тихо говорит: – Хочешь урок сорвать, Губайдуллин?
Бадя смотрит в окно. Страсти не туманят тяжелого Бадиного взора. Как Будде, ему ведома суть вещей. Он сразу видит, куда бить.
– Сальников! Может, и ты не выучил?
Сало долго вылезает из-за парты, оттягивая момент. Он сопит на весь класс, чувствуя, как Бадя улыбается ему в затылок, и краска волной поднимается по его шее.
– Не могу, Анна Михална…
Сяо Лю, мой сосед, смеется.
Обреченность прорастает в Крысиных морщинах. Она кашляет.
– Смеешься, Грешилов?
Я спешу отвести глаза, но поздно.
– Весело тебе?
– Ничего я не смеюсь.
– Ты ведь у нас член совета дружины? Вас там этому учат?
Я встаю.
– Правда, весело? Измываться над старухой. И смеяться исподтишка… Знаешь, кто так поступал?
Глухая печаль ее взгляда пронизывает меня.
– Фашисты. Они сразу не убивали. Растягивали удовольствие. Сначала помучат, посмеются. А потом убьют. Правда, смешно?
И улыбается беспомощной, надтреснутой улыбкой.
Я мотаю головой.
Тихий короткий свист раздается с задней парты. Я оборачиваюсь – Бадя подмигивает мне неподбитым глазом. Ненависть захлестывает меня, ноги сами собой делают шаг к доске…
…Ноги босы, грязно тело,
И едва прикрыта грудь…
Не стыдися! Что за дело!
Это многих славный путь…
Я стою у Крысиного стола и слышу себя, как сквозь вату.
Вот оно. Ползет по классу. Копейка перегнулся к Хлюпину, коротко шепчет ему в самое ухо. Тот замирает. Я понимаю, как ему хочется взглянуть на меня. Постеснялся.
А другие смотрят. Равнодушно. Сочувственно. Любопытно.
И Копейка улыбается мне в лицо, укрытый от беды, осененный могуществом Бади.
– А почему четыре? – с горечью спрашиваю я.
– Потому что читал без выражения.
Иду на место. Сяо Лю отодвинулся на самый край парты. Откалывается.
Черные лоснящиеся заводские корпуса проступают за окном в сыром тумане. На дворе под голыми тополями еще держатся островки грязного снега.
В ушах стучит это проклятое слово, перетекающее из уст в уста, с парты на парту.
Слово это – облом.
Крыса прохаживается, упрятав за спину руки и слегка переваливаясь.
– Некрасов называл свою музу “Музой мести и печали”… Что тебе, Грешилов?
– Можно выйти?
– Нельзя. Скоро звонок.
Меня знобит.
Они будут бить меня всем классом.
Я слышу женский смех на лестнице. Хорошенькая химичка Виктория Борисовна что-то рассказывает старшей вожатой Вере. Они забирают из гардероба свои пальто и присаживаются на лавочку. Слушая химичку и улыбаясь, Вера натягивает боты, прячет туфли в авоську.
– Грешилов, ты чего домой не идешь?
– Сидит и сидит, – говорит Никитична. – Медом намазано, что ли?
Вера оглядывает вестибюль.
За окном Валька Топоров в черном флотском бушлате, перешитом из отцовского, пританцовывает на ветру, не спуская глаз с дверей.
– Тебя ждут?
Я стыдливо киваю.
Мы выходим втроем. Валька с независимым видом пропускает нас. У ворот человек двенадцать. Вера решительно направляется к Баде:
– Только тронь его, Губайдуллин. Детской комнатой не отделаешься. Я в роно поеду. Вылетишь из школы как пробка.
Вера с Викторией доводят меня до угла.
– Ну, – улыбается химичка, – дальше доберешься, герой?
Мне очень хочется, чтобы они проводили меня до дому, но язык не поворачивается попросить.
Свернув за “Бакалею”, я припускаю во весь дух. Оглядываюсь – погони не видно. Размышляю секунду и ныряю в проходной двор.
Свист обжигает мне слух. Это Копейка, маленький и цепкий, повисает на моем плече. Я пытаюсь его стряхнуть, кричу, колочу изо всех сил по руке. Мы оба падаем. Они накатываются из-за угла и окружают меня.
Бьют портфелями, стараясь попасть по голове. Я прикрываюсь, как могу. Отступаю к стене. Не хватает воздуха, я быстро устаю. Удар сзади в затылок. Я роняю портфель. Теперь я безоружен. Берг, гадина, ты-то куда? Сегодня меня, завтра тебя…
Внезапно удары обрываются. Дышим.
Бадя, стоя в сторонке, манит меня:
– Ходи сюда.
– Не пойду.
– Ходи, говорят…
Кто-то дает мне пинка. Иду. Подхожу, загораживая рукой лицо.
– Убери грабку, – говорит Бадя.
– Не уберу.
– Хуже будет.
– Не уберу.
– Кому говорят?
Опускаю руку.
И слепну. Удар приходится в переносицу, все вспыхивает багровым огнем, я куда-то лечу, врезаюсь в какой-то ящик. Все солоно – из глаз слезы, из носа кровь.
– Понял, сука? – назидательно говорит Копейка.
Они уходят.
Прямо передо мной – глухая кирпичная стена. Ящики. Гора угля. Примятая стрелка травы щекочет мне щеку – свежая, ранняя. Из-за ящиков возникает хмурый Сяо Лю, поднимает мой портфель, стряхивает с него налипшую грязь.
Я ложусь на холодную землю, царапаю ее, молочу кулаками. И долго, злобно плачу.
– Я никуда не пойду!
– Это что-то новенькое…
От резкого света лампы чернота за окном еще глуше и бесприютней. Мне нестерпимо хочется под одеяло, оставшееся у бабушки в руках, обратно, в сон и тепло, туда, где нет ни этой морозной ночи, ни школы, ни надоевшего стука маминой машинки.
Бабушка трогает мой лоб.
– А ну-ка, померь… – Она уже стряхивает градусник, подозрительно приглядываясь ко мне. – И глаза у него блестят.
Ознакомительная версия.