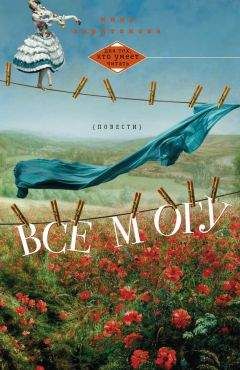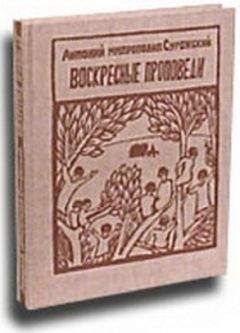Ознакомительная версия.
8
Таню же терзало другое. Проезжая мимо Измайловского парка, увидела она яркие шапки лыжников, их скрюченные спины и порывисто-отталкивающие движения. Ей вдруг стало стыдно перед всем вагоном, что они там, а она здесь. Едет румяная, к свадьбе готовится, и они едут, только все по кругу, по дистанции, мимо нее, как Стас ее давний, лыжник любимый, мальчик спасаемый, но так и не спасенный, на другой женатый. Таня припала к дверному стеклу и заплакала коротко и бесслезно. Плакала потом всю ночь, до всхлипов, до тряски, до умывания холодной водой, но так и не успокоилась.
Придя в школу, к своим ученикам и чужим детям, встала она скалою посреди класса и руками сказала, чеканя каждый жест до боли в пальцах, как чеканила бы сейчас каждое произнесенное вслух слово: «Я хочу прочитать вам стихотворение». И начала: «Вчера еще в глаза глядел, а нынче все косится в сторону…» На строчках «Увозят милых корабли, уводит их дорога белая…» Таня уже рыдала и незаметно для себя начала орать. Представились ей лыжная белая трасса, уезжающий Стас и она сама, закутанная и затянутая в метель, уносящую ее в даль небытия. Если крик ее, вибрацию высоких нот услышали даже некоторые из глухих детей, то учителя услышали и подавно. Только никто не осмеливался зайти внутрь класса и остановить ее. На последних строчках зашла завуч, увидела плачущую Таню и плачущих детей.
Педсовет принес Тане первый в ее трудовой жизни выговор, в частности за слезы ее воспитанников. Но никакому школьному начальству не пришло в голову, что плакали эти больные, уже тридцать раз несчастные и тридцать раз проклятые всеми и вся дети только от того, что увидели в этой женщине, строгой и беспощадной, живого человека, живую женщину, способную переживать и даже (о, чудо!) плакать. Никакой завуч не подумал, сколько надо было вложить сил в прочтение этих стихов, чтобы заплакал весь класс без исключения вместе с мальчиками и черствыми хулиганами. Продолжая занятия в неизменных лингафонных наушниках, все же по-другому смотрели они на Таню. С детской доверчивостью встречали ее возле школьного забора и стайкой провожали в учительскую. А одна девочка, самая смелая, спросила, также на пальцах: «А почему вы тогда плакали?» Таня растерялась, хотела было пуститься в объяснения, но, пересчитав вокруг детские глаза, разноцветные и разноразмерные, но все же одинаковые, как все глаза больных детей, промолчала. Больные дети опекали здоровую Таню, старались на ее уроках и вели себя подчеркнуто примерно. Учителя же понимали, что таким вот экстравагантным и вовсе не педагогическим методом завоевала молодая Таня уважение учеников, что случается редко даже с маститыми преподавателями, но и соглашались, что на уважении этом Татьяна Алексеевна не спекулирует и не использует детскую доверчивость в своих личных целях. А к концу учебного года инцидент забыли вовсе, тем более что летом выходила Таня замуж и никто не знал, вернется ли она к сентябрю.
Возвращаться Таня и не думала. Компьютерные дела ее будущего мужа шли как нельзя лучше, и роль домохозяйки была еще не испробованная и оттого лакомая. Вторая Танина свадьба готовилась с подобающим размахом. Помимо известной регистрации, застолья и второго похмельного дня решено было венчаться. Новость эта, дошедшая от Паши к Боре, а уж от него к Ольге, повергла последнюю в замешательство. Кинув дела, помчалась она к старой тетке.
Та, мучаясь старческими маниями, боялась последнее время, как огня, всяческой утраты, грабежа и воров. Запертая на все замки, она нудно долго открывала запоры, прежде чем впустить племянницу. Своих детей тетка Серафима не нажила, да и Ольгино двуплодие считала необязательным и, коротая последние свои дни под сенью высоченных потолков, все думала, кому оставить жилплощадь. С желанием осчастливить наследников боролся страх обмана, что бедную ее старуху выкинут во двор, под забор, а добро ее пропьют и прогуляют. Надо сказать, что подозревала она всех подряд, кроме Ольги, считая ее единственную честной. Расстройства ее причиняли Оле много хлопот, но безропотно, с вечной благодарностью за юношескую историю, тащила она себе все ее беды. Фима не могла вызвать врача, потому что боялась открывать чужим дверь, не могла сходить в магазин, потому что пугалась обсчета и обвеса и путалась в новых тысячных деньгах, она не способна была даже вынести мусор. Все это делала Ольга. Кроме маний, тетка не страдала ничем. Была крепка, для своего возраста здорова и подвижна и, если не брать в расчет ее страхи, сохранила ясный цепкий ум. Будучи в курсе семейных дел Оли, Серафиму интересовали только последние новости. Вгрызаясь в куриную ножку, она выкатывала на племянницу глаза и слушала молча, угадывая конец информационного потока по Ольгиному вставанию, потом еще долго обсасывала хрящики, плевала их прямо на скатерть, тут же смахивала их в скрюченную ладонь и, жестикулируя свободной рукой, зажав в кулаке останки птицы, высказывала свое мнение.
Пашу старуха любила больше, чем Борю. Слишком много хлопот принес ей старший Олин сынок своим появлением на свет. А Павлика считала своим мальчиком и даже тайно покрестила его, пока Оля с остальными курортилась в Паланге. Но креста на детской шейке не оставила, скрутила веревочку и спрятала в расписную шкатулочку. Берегла. И новости о венчании, к большому Олиному изумлению, почти обрадовалась. Единственное, что смущало ее, была Таня. От одной с ней встречи не сложилось у нее четкого представления о девушке. Все время Пашиных гостин боялась она только за имущество, на которое, как ей казалось, подозрительно заинтересованно смотрела Таня.
Ольга была категорически против венчания, настаивая на версии о неосознанном влиянии моды, по которой все ринулись к церкви, поголовно записав себя в сыны Божии. Знала Оля о ревностном отношении к вере самой Фимы и боялась лишним словом ее обидеть. Но та не обижалась. Подошла к платяному шкафу, где на одной свободной полке был у нее иконостас, припрятанный от посторонних глаз, и достала палеховскую шкатулочку. Ольга удивилась, что сынок ее оказался крещеным без ее материнского ведома, но возмущаться не стала, понимая, что не тот это повод для выяснения родственных отношений. Внимательно рассматривала она маленький детский крестик на пожелтевшей ниточке сутажа и уже знала, что от венчания этого никуда не деться. Серафима, все приговаривая: «Не в грехе же жить! Не в грехе!» – заворачивала в кусок газетки Пашину благодать.
Ни о каком таком грехе Таня и не думала, выходя вместе с Пашей из машины возле Свято-Даниловского монастыря. Не превращенный еще в резиденцию Патриарха, стоял он весь в строительных лесах, обшарпанный и бедный. Еще ничего не говорило о том, что через несколько лет станет он ухоженным, чистеньким и будет возрождать духовную жизнь горожан. Что будут останавливаться в нем иеромонахи и архимандриты со всей страны, пользуясь им как гостиницей, да и сама гостиница уже для мирских образуется рядом и станет самой дорогой и самой недоступной во всей объевшейся Москве.
О том, что многое благое дело без искушения редко происходит, Таня не знала, а потому здорово серчала на батюшку, прогнавшего ее на улицу за узкие брючки, неприкрытые плечи и голову. Пришлось ехать переодеваться, и всю дорогу Таня скандалила, ругала Пашу и то и дело передумывала о небесной констатации их земного союза. Пашу лишь забавляла ее горячность, и хотелось ему подчиняться ее воле, делать все по ее совету и указанию, но сохраняя при этом право на собственное, уже отчасти немое мнение. Бесилась Таня еще и потому, что на днях встретила она своего прежнего лыжника и долго не могла прийти в себя от этой, казалось бы, случайной встречи. Нарядный, с такой же нахохленной нарядной женой шел Стас по платформе метро, а Таня, спрятавшись за колонну, впивалась взором в эту пару и примечала детали совсем уж для себя драматичные. Из того, как смотрел, как держал за руку, как пропускал вперед, заслонив могучим телом всех, кто сзади, свою жену, сделала Таня печальный вывод, что «уводит милых» вовсе не белая дорога, а вот такие, как эта, блеклые девочки. Чувство необоснованной собственности, попранной гордости и опять-таки несправедливости душило Таню, и уже тогда знала, что не простит, никогда в жизни его не простит, как не простит рукоприкладства и измены.
Наученная горьким опытом своей первой свадьбы, Таня повела себя благоразумнее. Хорошо выспалась, встала рано утром, сходила в парикмахерскую и медленно, специально затягивая процесс, начала одеваться. Вездесущая Кирочка руководила процессом. Прилаживала шляпку на Танину голову, выписывала торжественный макияж, перетягивала подъезд лентами. В этих бесконечных организационных хлопотах и было Кирино самовыражение. Перекладывая с места на место кольца в коробочках, венчальные свечи и полотенца, она подолгу держала их в руках, как бы прикасаясь к святому таинству.
Ознакомительная версия.