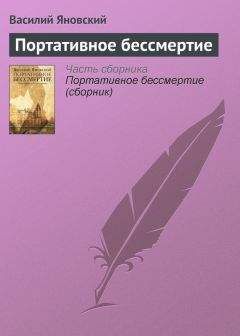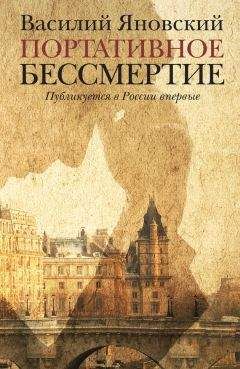Я знал это чувство: проклятие, проклятие вам, окна с белыми занавесами, сколько раз я… (впрочем, не надо). Итак, бездомная останавливалась, грозила, терзала свой круп, выливала невразумительно-грязный, торжествующе хриплый поток проклятий и доводов вроде: «Вы хотели, так вот вам, а теперь, гады, не нравится». Из бокового переулка, несвоевременно, показались две хорошо одетые дамы. Нищенка ринулась к ним со вздетыми локтями, обсыпая такой возмущенной, смрадной руганью (касательно разных женских тайн), что дамы, шарахнувшись к стене, сразу замерли, перепуганные. Кстати я подвернулся: предложил услуги. Взяв одну под руку быстро повел. Нищенка обрушилась удвоенным роем претензий (о, о, о!), где обида переходила уже в наслаждение («Моего ты не хочешь? А, гадина?»). Но так как мы шли по прямой линии, то она скоро отстала: перебежала на другую сторону бульвара, сердито шаркая несуразной обувью. Там у стоянки машин она застряла, отважно споря с обидными тенями: доносились отрывки ее затравленной речи, под гогот скучающих таксистов. На уровне Bd Raspail [56] я счел должным (поскольку надобность миновала) откланяться, даже не успев толком их разглядеть. Лишь когда они прошли вперед, я обратил внимание на очень притягательный силуэт той, что помоложе, – и пожалел чего-то, заволновался. Купил спички в «Доме» [57] , раза два смерил шагами оба тротуара, потолкался у террас, проверил мускулатуру на спортивных автоматах и, почувствовав усталость, вошел в кафе (против вокзала). Еще в другом зале я ощутил на себе, отраженный зеркалами, дружелюбный (женский) взгляд, – потянуло туда. Только в непосредственной близости, по голосам, по сокровенно-вкрадчивому движению ресниц более молодой я узнал «тех» и обрадовался. Лукаво, заговорщицки поглядывая, они склонились к сидевшему рядом мужчине, быстро-быстро нашептывая; тот обернулся: речь шла обо мне. Принесли кофе и журналы. За столиками пары, группы. Безотчетно фиксирую: вот этому (пожар лица) нужен режим [58] ; женщина со знакомою, злой, раздраженной бледностью сухих щек – метрит, сальпенжит [59] . Слежу за «своими» дамами; молодая, судя по неуловимым мелочам, свободна (кавалер относится ко второй). Волнующе-грубо-чувственная, еще в расцвете, тугое, хорошо развернутое тело, и только очи: сухой, яркий блеск, угрюмо-аскетические и в чем-то блудливые (как у соблазненной монахини). Изредка она бросала какой-то растерянный – вниз и вбок, – словно пробуждающийся, недоуменный взгляд. «Больная, – мелькнуло в связи с этим несоответствием. – Я где-то встретил такое!» – силясь вспомнить, по данному впечатлению воспроизвести угасший образ. Наши глаза скрещивались лучами.
С минуту мы жестоко, убийственно приникали друг к другу, внедрялись. Я первый уступал, брался за кофе, пробовал читать иллюстрированные издания, объявления сексуальной индустрии: снадобья, пояса, книжки, альбомы, наконец спрос-предложения. Молодой человек с автомобилем, располагающий по субботам досугом, ищет компаньонку, по возможности блондинку, высокого роста, не старше двадцати шести. Блондинка (натуральная), элегантная, с твердой грудью ( poitrine ferme ), ищет серьезное знакомство на время каникул. Сержант колониальных войск проводит отпуск в столице, жаждет веселого, невзыскательного друга. Пробегая эти знакомые строки, я всем существом, однако, следил за своим vis-а-vis , постепенно проникаясь определенным сознанием: какая прелесть, до чего хорошо! Как это происходит: только что вел ее за руку, а был непроницаем, ослепленно-равнодушен, потом вдруг – ничего же не случилось! – человек изменился, совсем иное (негодуй, сожалей об упущенном). В ней что-то от реклам для дамских поясов, ну да. Как она смотрит (где я видел: вниз, вбок, – пробуждающийся). Ее знакомые сделали какое-то шутливое замечание, она громко рассмеялась, отвернулась, возражая, защищаясь, но через минуту: снова припали, уже сближенные, связанные этим вмешательством. Вдруг их кавалер, здоровый, перекормленный вивер [60] , поднялся и, бережно, подобно всем крупным тварям, передвигаясь, направился ко мне. Готовясь к неприятному объяснению, разгоряченный, пристыженный, я, однако, выпрямился (как шулер благородную внешность, так я, инстинктом, стараясь сразу подчеркнуть свой объем и вес). Тяжело улыбнувшись дородными, мясистыми щеками, он сказал: «Я должен вас поблагодарить. Мои дамы восторгаются вашей любезностью, особенно одна. Если вы ничего не имеете против, мы могли бы выпить чего-нибудь вместе». Меня усаживают рядом с молодой, заметно оробевшей и потупившейся. Вивер заказывает по кругу, еще и еще. Мы чокаемся церемонно, и Николь – так ее звали – ожидающе взглядывает, отпивая маленькими, хищными глотками густой, сладкий ликер, мелькает скользко-подвижный, острый, алый язык, от одного влажного поблескивания которого покрываешься испариною. Вивер пробует шуметь; рассказывает эпизоды из последней войны: когда пришло подкрепление, саперы откопали их в траншее… но все еще отстреливались, и если б надо было, держались бы вплоть до Страшного суда. Он предлагает тост за Марианну {16} , за ее белый хлеб, красное вино и хорошо сделанных женщин. Ничего не получается: мы молча пьем, одурманенные, тяжело переводя дыхание, словно раздавленные многотонным грузом похоти, выступившей из недр, полонившей нас и все окружение. Внезапно Вивер решительно стучит кулаком по столу (огромный перстень на мизинце): «Господа, а что если по домам…» – «Да, да, – соглашается его дама. – Это неплохо!» – и смеется. Николь оборачивается ко мне: откровенно-вопросительно и в то же время смущенно-торжествующе. Лепечу: «Если позволите, я вас провожу…» – «Надо полагать, что этот вопрос улажен!» – смеется вторая. Вивер изрыгает обрубки хохота и капли коньяка, попавшие ему в трахею. Николь, не отвечая, как-то сразу побледнев и осунувшись, оцепенело надевает перед зеркалом – шапочку, жакет, мех. У карусели дверей Вивер невзначай осведомляется: “ Qu’est ce que vous faites dans la vie? ” [61] Получив ответ, тискает мой локоть и восторженно шепчет: “ C’est une honnête fille! Oh, quel bonheur! ” [62] Мы поворачиваем на рю Вожирар [63] (в сторону Falguière [64] ). В липком чаду я держу, несу ее руку; с преступным и почти религиозным трепетом перемогаюсь, глотаю слюну. Они о чем-то договариваются, уславливаются, я понимаю, что: 1) Николь и вторая живут вместе, но последняя ночует сегодня у Вивера… и 2) завтра никак нельзя упустить что-то, проспать. На незнакомом перекрестке мы прощаемся. Вторая, сердечно улыбаясь мне, покровительственно жмет руку. «Детки, я бы многое дал, чтобы на вас поглядеть, – вопит Вивер, – хоть в замочную скважину». Уходят, обнявшись, захваченные гребнем обрушившейся на нас волны. Мы одни: грузные, неповоротливые, точно в насыщенном, горячем сиропе. Длинная, темная улица (за «Пастером» [65] ). Я касался ее ноги, бедра: рядом… воспринимая эту плоть как нечто страшное и священное.
У очень приличного (старого) подъезда: «Здесь», – вымолвила. «Вы позволите мне зайти?» – произнес я глухо (прокашляться бы) и обнял, осторожно погладил всю. «О, что вы подумаете обо мне», – умоляюще и надолго припала влажным ртом, подрагивающим, богато одаренным телом. Заговорщики, мы позвонили. «Нужно помолчать!» – не зажигая света, за руку, она осторожно провела к лифту. Лифт медленно поднимается, а у меня чувство: стремительно сверзаюсь. Бесконечная, знакомая, пленительная грусть окатывает меня (так за картами, когда проигрываешь чужие деньги и азартно просишь беспощадно резонных партнеров поиграть – еще – в долг). Снова указывает дорогу в темноте: под ногами липкая дорожка линолеума. Дважды щелкает ключ; в передней вспыхивает свет. Комната, обитаемая женщинами: зеркально и бархатисто светлая, большая и тесная. «Сейчас, милый», – выдыхает она горячий воздух, изнеможенно улыбаясь, отталкивает меня и легко скрывается за матовою, стеклянной дверью. Слышен характерный (два па) стук сброшенных туфель, вихревая пауза – и вода мощною струей полилась из кранов. Озираюсь – безделушки, тафта, – осторожно сажусь на край постели, глотая воздух вперемежку со слюною, рассчитывая на близкое безудержное ликование. Мелькают нелепые (вызывающие представление о собственном ничтожестве) мысли: стать на руки, заблеять; обязательно помыть ноги, и вдруг одна: – бежать, уйти. Улыбаюсь чудовищной шутке.
А между тем, игрой противопоставления, таинственной и хрупкою, эта мысль прорывается, начинает сгущаться, оседать. «Ты с ума сошел, безумец», – растерянно, испуганно защищается взятое в тиски естество, зная, что я могу выкинуть нечто подобное, и принимая свои меры. За стенкою передвигают табурет, звякают чем-то. Как она целует! Бедра, да, да! Но чудом сопротивления, непокорности, детского упрямства я всё еще не сдаюсь. Как всегда: уже изнемогая, в самом конце, у порога, у межи – ожила новая и первичная жажда (тягаться)! «Ты не сделаешь этого, ребенок!» – шепчет другой со взглядом харкающего кровью (стук босых пяток по полу). «Господи, Господи, я ведь раз живу на Твоей земле, научи!» И вот странное чувство покоя и решимости начинают заполнять душу; знакомое, дальнее: когда профессор Чай указал позицию для прыжка (шесть метров) и я, щелкая зубами, в атавистическом бреде, полетел головою вперед с трамплина в воду… выплыл, о, счастье, какая определенность, уверенность и благодатная твердость в груди, уважение к себе и к достойным того! Эта старая – оттуда – осведомленность, вежливая решимость устранить все мешающее (по совести) вдруг сложными зигзагами, зеркальными рикошетами, отражениями оказалась воскрешенной, пробила дорогу, догнала меня сейчас, по заросшей, некогда проторенной колее. Словно зачарованный, дивясь и ужасаясь, встаю. Губы что-то шепчут: я кланяюсь собственному образу в трюмо. Отворяю дверь и со всех ног (как пьяный, которого хранит Бог, как лунатик на карнизе), не боясь свернуть шею, кружу в темноте по лестнице, скольжу на поворотах, тычусь в плюшевые скамьи на площадках, висну на поручнях – мокрый, с лицом одержимого – скатываюсь вниз. Где-то хлопает дверь, зажигается свет, я дико вслушиваюсь, чувствуя ответное напряжение – оттуда; не выдержав: “ Cordon S. V. Р. ”… [66] – таким голосом, что замок сразу щелкнул и пахнуло полуночным ветерком (шевельнул непокорными волосами на моей голове, как на мертвом в поле). И тотчас же: «Господи, что я наделал, что я наделал, безумный!» – завертелся волчком, вдруг окунутый в самое лютое земное смятение (сожаление об упущенной возможности). «Вот здесь, только что, гладил (губы, всё), какое блаженство. Она уже готова: появляется! Какой ужас! Что я натворил! Если б на двадцатилетнюю страшную каторгу за это счастье… Принимаю, с радостью, уже согласен, готов назад!» – клялся я (споря, защищаясь). – «Но что же это такое, что мучительнее двадцати лет каторги? – изумился я наконец. – Да ты рехнулся, миленький. Во имя чего напутал, нахамил. Душа… Неужели верно? Брось, откуда? Доколе мне будут мешать жить? Господи, что же это такое?!» – без ответа, изуродованно кружил я, словно овца, которую хватил солнечный удар. Но вот продолжение: движется аморфная масса, отрывается со дна, нехотя всплывает безликая. Останавливаюсь. Газовый фонарь; припадаю головой к железу, кутаюсь, прячу сознание, решительно смежаю веки: лучше увидеть, распознать, на лету пронзить! Стою так – человек под ночным небом, – уткнувшись в пятиминутную вечность. Трепыхается газ, гудит металлический брус. Выпрямляюсь, неожиданно для себя облегченно смеюсь; ничего не увидел, не различил, а на душе уверенность и мир, праздник и серьезность; чем-то новый, пережив еще одно воплощение (рубец воина, тавро освобожденного раба, следующее кольцо на рогах буйвола или в стволе дерева). «Понял, – шепчу блаженно, – понял». Но что я постиг, ей Богу, не ведаю, и очередная попытка расшифровать вызывала только бесплодное раздражение. А между тем реальность: душа вернулась, успокоенная, повзрослев, возмужав. Длинная, таинственно-пустынная улица, мощенная булыжником; иду целиною, что-то припоминаю. От подворотни отделяется тень, приближается. «Огонек есть?» – хриплый, недобрый голос. Достаю спички, протягиваю. Он зажимает в кулаке своем коробок вместе с рукою, ногою наступает мне на ногу. «Шляпа, – мелькает обидное. – Как влип, шляпа». Потянул меня слегка вперед и вывернул руку в локте, так что я мгновенно очутился в положении парализованного. Подступает совсем близко. Потеряв счет времени, мы жадно смотрим в кромешную тьму предполагаемых глаз. Брат мой. Что-то дрогнуло в стальной тени зрачков. «Боишься?» – спрашивает. «Нет», – отвечаю, подумав.