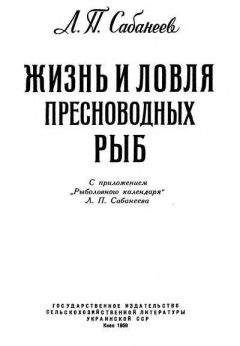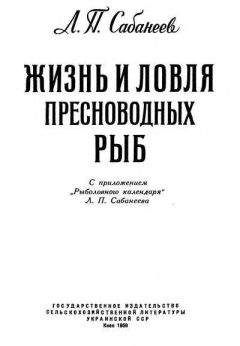Мне показывали рисунки, сделанные когда-то очень давно японцами со слов других японцев, впервые побывавших в России. Петербургский пейзаж на этих рисунках был весь в сопках.
Вода – мокрая, небо – синее, рельеф – гористый; вот и мне в детстве казалось, что сопки и море – вроде воздуха или ежедневного восхода.
Море было не всегда. Тот же академик Ферсман пишет, что геологическая история Земли началась с безводной пустыни: «На… поверхности земли не было жидкой воды… Тяжёлая атмосфера паров и газов окружала ещё раскалённую Землю…». Но с точки зрения человека океан, как и суша, существовал и будет существовать вечно.
Химики могут рассказать, какие соли растворены в море, как будто от этого море станет нам понятнее; и как будто химики в действительности знают, что это такое – те вещества, которые они с умным видом называют оксидами, или сульфатами, или хлоридами.
Вода может становиться льдом и паром. Феноменом льда много занимались алхимики и мистики; феномен пара породил паровозы и пароходы – важный этап человеческой цивилизации, символ которой «Титаник» погиб от айсберга, то есть куска льда, окаменевшей воды. Плох айсберг, не мечтающий о своём «Титанике».
* * *
И вода, и камень, и воздух – грозные и загадочные стихии.
Отдельная стихия – тайга, именно не лес, а тайга. С удивлением узнал из словарей, что тайга – хвойный лес. По мне, тайга – это лес, во-первых, зауральский, во-вторых – непролазный и дикий, подобающий мрачновато-азиатскому звучанию этого слова.
Наша тайга похожа на наше море. Она столь же сюрреалистична, одновременно северная и южная. Снега, морозы – и в то же время тигр. Даже берёзы у нас то маньчжурские, то даурские – не есенинские. Моё любимое дерево – амурский бархат, покрытый серебристой пробковой корой. И ещё маньчжурский орех, напоминающий грецкий. Встречается лесная драгоценность – женьшень, чьё созвучие с женщиной не случайно: и то и другое показано мужчинам. Женьшень – «корень жизни», «человек-корень» – по легенде, родился от молнии, ударившей в горный ручей. Не менее удивителен кишмиш – не виноград, а «актинидия коломикта», особая ягода, которая растёт на лианах и родственна с киви (в разрезе не отличишь). Другие лианы дают «ягоду пяти вкусов» – лимонник, третьи – дикий виноград…
Мы собираем в тайге кедровые шишки, черемшу и папоротник. На озёрах растёт лотос – буддийский символ чистоты, поскольку он появляется свежим и незапятнанным из мутной болотной воды.
Дерево столь же удивительно, как и рыба. Жаль, что с тайгой я знаком очень слабо – в отличие от отца, который за свою геологическую жизнь провёл «в полях» немногим меньше времени, чем в городе. В 2012-м на владивостокской студии «Зов тайги» сняли фильм «Лесные люди». Один из героев – удэгеец с Самарги – вдруг вспомнил «старшего геолога Олега Авченко», который советовал ехать в город учиться. А удэгеец посмотрел на Хабаровск – тайги нет, сопок нет… и вернулся домой. Встречались они в шестидесятых, почти полвека назад. Отец подтвердил, что работал тогда на Самарге и что среди маршрутных рабочих были удэгейцы.
* * *
Море примет и растворит всё – как земля, только быстрее. Море дезинфицирует, смягчает, шлифует острые камни и бутылочные осколки. Оно пока ещё способно переварить любую нашу глупость, разбить и растворить любой «Титаник» – символ самовлюблённого и верящего в прогресс человечества. Может быть, человечество и живо постольку, поскольку живо и ещё работает море. Море – наш НЗ и наше спасение. В 2013-м учёные из Института биологии моря – он стоит прямо на берегу Амурского залива, витая кирпичная раковина – открыли то, чем в перспективе, возможно, придётся питаться человечеству. Они нашли на глубинах в 2–3 километра новые экосистемы – пласты жизни, доселе неизвестной человеку. Раньше считалось, что жизнью наиболее полны прибрежные воды и шельф – но это только потому, что глубже человек не мог заглянуть. 95 % мирового океана – глубины более километра. Пока человек их не освоил, но освоит – у него нет другого выхода. Мы будем питаться морем. Оно даёт нам воду, рыбу, газ, нефть, даёт всё – как почва, земля.
Дерсу Узала называл Солнце «самым главным люди»: «Его пропади – кругом всё пропади». Те же самые слова мудрый старик-гольд, этот приморский могиканин, проводник-праведник, космист и коммунист, таёжный князь Мышкин, убитый под Хабаровском «злым люди», мог бы сказать и о море. Даже посреди материка точкой отсчёта для человека остаётся море: высоту гор и глубину низменностей человек определяет относительно уровня моря. Как будто это так просто – достичь уровня моря. Для этого нужно самому стать морем, стать водой, как говорил Брюс Ли, превративший своё тело в совершенную, сверхчеловеческую машину.
Я не знаю ничего, что было бы выше уровня моря.
Сколько нужно самоуверенности, чтобы считать белковую форму жизни – единственной, а море относить к «неживой природе». Что такое «одна шестая часть суши» по сравнению хоть с одной десятой частью океана? Когда о книге говорят: «Здесь много воды» – я улыбаюсь. Много воды – это невыносимо прекрасно.
Есть обычай освящать воду. Вода сама способна освящать. Она священна по определению. Рассказывая об умении удэгейцев плавать на долблёных лодках по горным речкам, Арсеньев называл их «полурыбами, полувыдрами», но замечал, что плавать они не умеют, и вот почему: «Никто из них никогда не купается, потому что не хочет осквернять воду». То же – у чукчей, свидетельствовал Рытхэу: «Среди приморских жителей… существовало поверье, что человека, попавшего в воду, не надо спасать, – это Дух Моря просит человеческую жертву».
Вода моет, то есть очищает (высшая мера очищения – великий потоп), и ещё растворяет – не уничтожает, а принимает в себя, переводя в иное состояние. «Беловодье» – земной рай, который искали староверы. Живая и мёртвая вода из сказок. Золотой храм – Кинкаку-дзи в Киото, расположенный посреди озера, рукотворный самородок, окружённый водой и отражающийся в ней.
Через океан очень легко понять, что такое бесконечность и вечность. Легко осознать собственное ничтожество перед космосом и океаном, который я понимаю как модель космоса. Это ощущение собственного ничтожества бывает необходимым и даже спасительным.
Море даёт понимание подлинного масштаба человека, не унижая его. Ощущение своего ничтожества по сравнению с морем получается не гнетущим, а светлым, успокаивающим, примиряющим с быстротечностью собственной жизни и безальтернативностью её завершения. Целые планеты живут и умирают, вселенные гибнут и рождаются снова, а я, песчинка, ещё чего-то хочу от этого мира; мир и без меня целен и прекрасен. Он терпит меня, поскольку я ему безразличен в силу своей незначительности. Безразличен, как ещё одна морская звёздочка на дне. Моя жизнь представляет ценность для меня самого, но когда я перестану быть, мир этого не заметит. Закат на Амурском заливе, который я каждый вечер вижу из окна и на который никогда не насмотрюсь, будет гореть ещё долго после того, как от меня не останется никаких следов. Что там от меня – от города, от цивилизации.
У «верхних людей», к которым, как верят коренные приморцы, мы уходим после смерти, рыбалка никогда не заканчивается. Мы пришли из моря – и в море уйдём. Мне всё равно, что будет со мной после смерти. Это всего лишь тело, и, умерев, оно ничем не будет отличаться от земли или древесины. Черви в земле, огонь в печи – какая разница; но мне было бы тепло от мысли, что моё тело после смерти достанется рыбам, всегда чистым безмолвным существам. Тем самым я бы отблагодарил их за всё, что они для меня сделали. Быть съеденным крабами или рыбами (как, собственно, и земляными червями, хоть это звучит грубее и грязнее – на наш слух, но тем хуже для нашего слуха) означает всего лишь влиться вновь в океан всемирного единства. Это прекрасный и мистический ритуал, на который не жалко отдать своё, тем более отслужившее тело.
Если бы я верил в переселение душ, меня бы грела перспектива когда-нибудь превратиться в красивую серебристую рыбу, рождённую плавать и молчать.
Эту страсть я заново открыл для себя уже взрослым.
По-моему, это случилось в Дальнегорске – горняцком «моногородке», где добывают свинец, цинк («полиметаллические руды») и бор. Старожил что-то рассказывал за пивом, и вдруг в голове моей стали вспыхивать слова, которые, казалось мне, давно позабыты. Когда он упомянул добычу олова, я напрягся и неожиданно чётко произнёс непривычные звуки:
– Касситерит!
Он заговорил о боре, и я медленно, но внятно сказал – едва ли не по складам, как человек, к которому вернулся дар речи или напрочь забытый иностранный язык:
– Датолит!
Старожил приятно удивлялся. Я тоже удивлялся – тому, что я всё это прекрасно помню. Что на язык мой спустились магические, не всем известные или даже не всем разрешённые слова. Что расплавы и растворы, бродившие годами, вдруг перешли к кристаллизации.