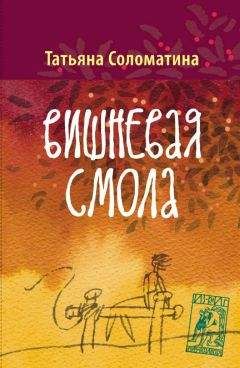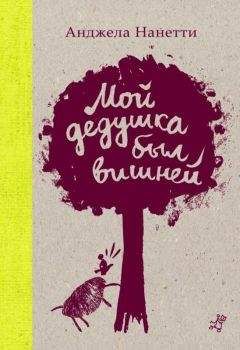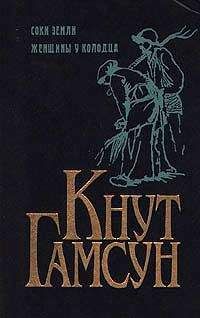Ознакомительная версия.
Сашка Калеуш на мотоцикле больше не гонял. Потому что мотоцикл его всмятку об то дерево разбился. Сашка теперь назывался «вдовец». Это грустное слово. Вдовец – это такой мужчина, у которого была жена, а потом не стало. Умерла. Или вот как Диночка-дурочка. Убилась. Я как-то брата своего попросила сходить на могилу к Диночке – её тут, в городе, похоронили. Мама Сашки Калеуша сказала, что так будет. И, видимо, так сказала – что так и стало. Хотя Диночкины родители вроде бы хотели её у себя в деревне похоронить. Но она сказала, что тут похоронит, и памятник мраморный поставит, и за могилой следить будет. И Диночкины родители согласились. Только я попросила брата на могилу к Диночке вдвоём сходить, без его вечной девицы. Я бы сама пошла, но не знала, где могилу искать. Могила у Диночки была очень красивая. И памятник стоял. Блестящий. Наверное, мраморный. И на том памятнике сама Диночка была, только гораздо красивее, чем в жизни. Приукрашенная какая-то. Ненастоящая. Неживая. И ещё на памятнике было написано «Дина Калеуш», и были цифры: 1961–1979. Год рождения и год смерти. Больше ничего не было. Никаких там «любим, помним, скорбим», или «от любящих детей и внуков», или от «безутешного супруга», как на других, по дороге мною рассмотренных памятниках. Я как представила про себя вот это: 1970–1988 – и решила раз и навсегда – никаких Калеушей! Решила влюбляться только в миноров на инвалидных колясках. Сашка, кстати, некоторое время был минорным, то есть грустным. И катался в инвалидной коляске. Но «никаких Калеушей!». Тем более что вскоре он встал на ноги и стал мажорней прежнего. А его мама и папа купили ему новенькие «Жигули». Шестую модель. А мой брат купил себе раздолбанную «копейку». Это тоже такие «Жигули». Первая модель. И почти женился на своей девице. А Сашка Калеуш через пару лет женился не почти, а взаправду. На очень красивой девушке, дочке приятелей его мамы и папы. Родители девушки купили им на свадьбу кооперативную квартиру, а родители Сашки Калеуша купили им «Волгу» вместо «Жигулей». И жена у Сашки Калеуша была Анастасия Креминская. Она свою красивую фамилию не стала менять на смешную Сашкину.
Потом все – кто вырос, кто возмужал, а общипанная курица Диночка – никогда. Так и застыла навсегда восемнадцатилетней дурочкой, и никто никак её собственную фамилию не мог вспомнить. Так что её не осталось, и от неё ничего не осталось. Ну, кроме разве что мраморного памятника, да и это не от неё, а от мамы Сашки Калеуша. Я решила, что, когда я умру, никаких вот этих торжественных камней с фотографиями и цифрами. Пусть мне только всю жизнь спинку гладят, а мраморных памятников не надо. Мне сейчас уже сто лет в обед, но я до сих пор так считаю.
Сашке Калеушу, между прочим, даже больше, чем мне сейчас, – ему сто лет в обед плюс ещё десять. И у него есть «Харлей». Какой у него мотоцикл был, когда мне было девять, – я понятия не имею. А нынче у него «Харлей». Сашка на нём изредка и важно рассекает по тихим окрестностям своего благополучного загородного дома. Потому что в основном ездит на джипе «Патрол». Он, кстати, полковник. Гаишный полковник. Наверное, это тоже милиция. «Харлей» у него для души. Я как-то раз совершенно случайно с ним встретилась. Это такая история, что если её рассказать, то все скажут: «Так не бывает!» Рассказываю, как не бывает. Приезжаю я в мой детский город редко, останавливаюсь у подруги. Нет-нет, и брат тут, и мама с папой, всё у них в порядке. Бабушки с дедушкой уже давно нет. А у подруги мне просто лучше, потому что друзья – они такие. С ними иногда лучше, чем с мамой, папой и братом. И вот, едем мы с моей подругой – она рулит, – и тормозит нас гаишник. У гаишника такое знакомое лицо, что у меня аж память сводит спазмом, но тут подруга опускает стекло и он выпаливает: «Инспектор ГИБДД, старший лейтенант Александр Калеуш, ваши документы!» И тут моя память от спазма освобождается и на радостях резко выкрикивает вслух (оно мне надо было?!): «Уж не Александр ли Александрович Калеуш?» – «Он самый!» – улыбается он мажорно и весело и протягивает моей подруге обратно документы. «Я вашего папеньку имела честь знать! Очень давно, сто лет назад, но если вдруг вспомнит…» – и я протягиваю Александру Александровичу Калеушу свою визитку, нацарапав на ней карандашом свою девичью фамилию. Он берёт вежливо-недоверчиво, привычно-заученно козыряет своё: «Счастливого пути!» – и тает, как призрачное видение. А папаша его возьми да и позвони, хотя с моим братом давно не общается. А я, дура, возьми да и согласись с ним встретиться. Мы с ним крепко выпили в ресторане, и я зачем-то спросила его про Диночку. Что-то обыкновенно-хмельное: «А помнишь?..» Сашка сначала мажорно сказал: «И как меня тогда угораздило жениться-то?!» – и, помолчав, минорно добавил: «Бедная Диночка-дурочка». И заплакал, размазывая пьяные слёзы по толстым щекам. Я погладила его по разжиревшей спинке и так испугалась, что тут же выскочила на улицу из того ресторана, из начинающей разрастаться застольной, совершенно неизвестной мне компании, немного прошлась, пока он не опомнился, и через квартал поймала первую попавшуюся машину. Эта была какая-то доисторическая, грохочущая всеми частями «копейка». Я не стала капризничать и, назвав адрес подруги, сказала:
– Через Пушкинскую!
– Чего так криво-то? – спросил меня потёртый дедок в кепаре, восседавший за рулём доисторического автомобиля.
– Так надо! – многозначительно сказала я.
– А-а-а, ну раз надо!.. – понимающе протянул дедок.
Мы ехали по Пушкинской, и чёрный-чёрный негр махал мне белым-белым рукавом, и мне было хорошо, потому что раздолбанная «копейка» пахла точно так, как когда-то пах горбатый «Запорожец» моего брата. Она пахла детством, морем, влюблённостью и дружбой. И немножко – правильными котлетами из столовки.
В то лето, когда мне исполнилось десять лет, я предала человека.
Хуже всего тут даже не сам факт предательства, потому что с самого нашего рождения до самой нашей смерти мы только то и делаем, что предаём и людей, и животных, и самих себя (впрочем, если мы считаем самих себя за людей, то «предаём самих себя» тут, пожалуй, лишнее). Уже только тем, что рождаемся, – мы предаём. Предаём интересы наших мам и частенько даже пап, которым из-за нашего рождения надо больше зарабатывать (а негде!). Например, хотела ваша мама стать завучем, а тут рождаетесь вы – и ваша мама, вместо того чтобы стать завучем, становится вашей мамой и полгода или год только то и делает, что кормит вас, пеленает вас, моет вам зад – и эти полгода или год считай что вычеркнуты из жизни вашей мамы, а место завуча уже давно занято. Но если, родившись, вы предали свою маму (потому что предать интересы своей мамы – это всё равно что предать маму), то вы можете себя оправдывать хотя бы тем, что вы неосознанно пошли на это предательство. Вы же даже и подумать не могли, потому что, собственно, нечем вам ещё было думать, что, родившись, вы предадите свою маму. Ну а вот когда вам уже есть чем думать, предательство – это подло. И предавший – подлец и, собственно, предатель. А «предатель» – это одно из самых плохих слов, куда хуже, чем дурак. А уж если вы предаёте по дурости – то, значит, вы и дурак, и предатель, и нет вам места среди людей, не говоря уже о животных. Но хуже предателя-дурака может быть только предатель-дурак, по дурости предавший своего родного брата. Вот что хуже самого худшего.
Мне было десять. Моему родному брату было двадцать. А девице моего родного брата – двадцать два. Цифры не имеют никакого значения, они не более чем констатация факта самих цифр. Для протокола, так сказать. Протокол – это когда грустная, печальная и где-то даже трагическая история рассказывается сухим, лишённым эмоций языком. Вряд ли у меня так получится, но раз я знаю, что такое протокол, то почему бы ещё кому-нибудь об этом не узнать? Должен же быть от моей никчемной дурной жизни предателя хоть какой-то толк (все мы, люди, любим уговаривать себя, что от нашей жизни есть хоть какой-то толк, поэтому животные счастливее нас, потому что им незачем толковать, и о толке в том числе).
Вообще, все мои мысли по этому поводу совершенно не важны, потому что каждый уже родившийся имеет право на свою версию о предательстве. Потому что каждый уже родивший – предавал. Даже если не знает об этом. Не отдаёт себе в своём предательстве отчёта и не имеет никаких версий.
А я, когда мне было десять, предала родного брата. И дело было вот как…
Хотя, как обычно, стоит начать издалека. Потому что если сразу озвучить, в чём было дело, – то это будет совершенно неинтересно. Весь основной интерес состоит обычно вот в этом самом «издалека». Во всяком случае, у того самого Клиффорда Саймака, которым я хотела стать, когда мне было девять, – весь интерес в основном состоял именно что в «издалека». Читаешь-читаешь рассказ – и ужасно он интересен. Какие-то машины, несущие нефритовые яйца и раздающие всем желающим именно то, что они желают. Один, там, умирает от рака, а все остальные – от полиомиелита. Фермеры, войска, майоры, полковники, шерифы – жутко интересно. Ужасно просто! Мама заставляет спать, а ты ещё не всё «издалека» прочитала, и кажется, что самое интересное будет в конце, когда всё выяснится… Но! Дочитываешь до конца с фонариком под одеялом, и что?! Выясняется, что ничего не выясняется. Ну, идут они туда со своей копчёной колбасой и со своей бутылкой воды, что им дали на сдачу (на сдачу дали пустую бутылку, они её по дороге наполняли водой). И вот тот, что был с раком, а теперь без рака, и дочка фермера, что ему носила молоко и яйца (а теперь любит), приходят в то здание, что построила машина, несущая нефритовые яйца, – и привет! Ничего не ясно. Они пришли, а там классы. Типа школа. Или даже университет типа университетов Лиги плюща (у нас таких нет, потому что Клиффорд Саймак – он американец). Доски, там, школьные. Парты. Дочка фермера куда-то уходит и выясняет, что там не только классы, но ещё и уютные комнаты, на одной из которых прям табличка с именами этой самой дочки фермера и того парня, что уже без рака. Вроде как комната в общежитии (ага! так тебе и будет уютная комната на двоих и прямо таки неженатых в общежитии университета, жди! Потому, наверное, и называется Клиффорд Саймак фантастом, что про такое пишет). А пока она ходит узнавать про комнату, того парня никуда не выпускают, и даже дверь из класса зарастает. Ну, это понятно, потому что мальчикам всегда учиться неохота куда больше, чем неохота учиться девочкам. Девочки, девушки и женщины всегда прилежней мальчиков, юношей и мужчин. Ну и на этом всё заканчивается. Ничего не объясняется ни про машину, что несёт нефритовые яйца, и удочки, и флаконы с духами, и бриллиантовые ожерелья. Ни про здание в тысячу этажей, выстроенное машиной на площади в сотню акров, ни про то, куда делся у того парня рак, ни про почему атомная бомба зависла над зданием, но не взорвалась. Нет, ну понятно, что там мораль, мол, человечество ведёт себя чаще всего, как стадо жирафов, что учиться людям ещё не переучиться, да и учёба ещё не всем дана, а только избранным (как будто и без инопланетян это непонятно!). Всё такое, короче. Как говорит мой дедушка: «Мораль – смотри этика, этика – смотри мораль». Но концовка никакая[8]. И даже не потому, что я разочаровалась в Клиффорде Саймаке – я в нём не разочаровалась, вовсе нет. Просто я уже не хочу им стать. Я хочу стать собой. А дело в том, что это самое «издалека» куда интереснее любых концовок. От самых занудных поучительных до самых неожиданных детективных (это чаще у Агаты Кристи бывает – всю дорогу ждёшь, что убил один, а потом выясняется, что убил совсем другой, и частенько это бывает очень сильно притянуто за уши, хотя я и очень люблю Агату Кристи. Когда люди кого-то любят – им всё равно, что тот, кого они любят, что-то куда-то притягивает за уши). В общем, я к тому, что в историях типа историй Клиффорда Саймака важнее это самое «издалека», а в историях Агаты Кристи важнее именно конец. Хотя если повнимательней разобраться в Агаты-Кристином «издалека», предшествующем концу, то начинаешь понимать, что ей самой так надоедало это «издалека», что она вешала убийство на первого ей под настроение подвернувшегося. И если прочитать несколько раз, то понимаешь, что на любом из этапов историй Агаты Кристи можно повернуть так, что всякий, кто помещается в правило единства времени и места (это такое драматургическое правило, созданное для того, чтобы всё поместилось на сцене в определённой длительности спектакля), и может оказаться убийцей. В моей же истории про предательство, как и в историях Клиффорда Саймака или, там, Достоевского, важнее именно что «издалека», и вообще – сама история. Взять «Преступление и наказание» – там сразу ясно, кто убийца. С этого и начинается практически. И интересна именно сама история. Кто они такие все там. Почему. И как оно так вышло. Ответов на это никаких определённых нет, чтобы там ни писали в глупом предисловии. Но Достоевский – он вам тоже не дурак, и, для того что бы читатели радовались, – делает вид, что всё закончилось хорошо, типа и порок наказан (хотя именно всякого рода порок нам в этом «Преступлении и наказании» симпатичен) – и жили долго и счастливо. А как они жили долго и счастливо – это уже совершенно не важно. «Долго и счастливо» – это самодостаточная консервированная эйфория. Как банка клубничного компота. Расшифровки не требует. Требует немедленного поедания. Съел и забыл.
Ознакомительная версия.