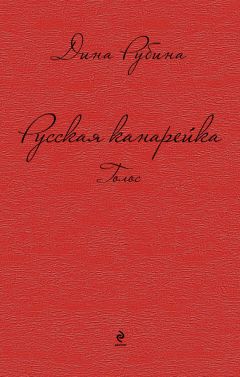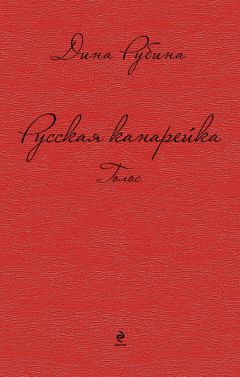Остается узнать, кто именно сломал шею Адилю, кто пустил по следу Куньи и Рахмана убийц – «Казах» или Гюнтер, который так вовремя оказался в Иерусалиме и так искусно, так изящно вывел из строя видеокамеры, которые могли бы свидетельствовать о преступлении… Так Гюнтер? Или все-таки «Казах»?
Невозмутимо захлопнув книгу, Леон поставил ее на место.
– Ну, Фридрих, чего же мы ждем, – нетерпеливо окликнула Елена. – Все в сборе и все голодные!
– Да я и сам проголодался! – с удовольствием подхватил тот. – К столу, пожалуйста, прошу…
Он распахнул обе створки двери из гостиной в столовую, где посреди комнаты, обставленной шедеврами искусства восточных резчиков – витринами и буфетами с коллекцией посуды и мелкой скульптуры разных стран, стилей и эпох, – стоял просторно раздвинутый накрытый стол.
И правда, по-домашнему все было – никаких строгостей, никаких претензий на соблюдение сервировочного этикета, но все со вкусом и все, разумеется, антиквариат, никакой штамповки – такой разброс, такой свободный размах разностильного уютного быта! Леон и сам так уютно и по-домашнему накрыл бы стол: тут и «Веджвуд», и «Беллик», и целая флотилия изящных графинчиков английского серебра под водительством флагмана – высокого кувшина для домашней наливки, великолепного экземпляра «шинуазри»: горлышко – гофрированный раструб, а вместо ручки – крылатый дракон, когтистыми лапами вцепившийся в края кувшина: вольная фантазия мастера на китайскую тему.
По всему столу расставлены были закуски в керамических плошках иранской ручной работы. Издалека угадывалась изящно составленная композиция из стаффордширских фарфоровых статуэток (небольшая компания в стиле «рожденственский вертеп» – все персонажи «Принцессы Турандот»).
А в центре стола, в ярко-желтой керамической бадье, аппетитно и празднично, слегка растрепанной горкой красовался Главный Торжественный Салат…
Леон приблизился, не веря своим глазам:
…кропотливо вырезанная из красной луковицы роза с нежными, как губы девушки-подростка, лепестками – луковая роза украшала тайский салат из холодной говядины.
Ну что ж, сказал он себе, а в ушах уже пела, уже стремительно неслась, множа голоса и подголоски, нарастающая тема тревожной страсти и яростного возбуждения, что ж, блюдо распространенное; возможно, каждый повар просто обязан завершать данный популярный салат этой канонической розой. К тому же хозяева вполне могли заказать еду в соседнем тайском ресторанчике.
О нет… в этом доме – по всему видно – готовую еду не заказывают…
Леон собирался сесть рядом с Айей (ему нужна была ее рука, предупредительная рука-лоцман на его колене), но усадили их друг против друга; значит, приходилось надеяться лишь на движение ее бровей, на еле заметное шевеление губ. Фридрих – Леон это чувствовал, даже не глядя, – глаз не сводил с племянницы. Он сидел во главе стола, а возле Леона села хозяйка дома, и после первого же тоста – вполне традиционного, за здоровье именинника – от наших виноградников, что так жгуче Леона интересовали, повернула в сторону оперы. В свое время она наверняка закончила музыкальную школу, во всяком случае, музыкальные термины вворачивала густо и почем зря. Надо отдать ей должное – была в курсе музыкальной жизни Лондона, следила за расписанием фестивалей, за репертуаром театров, отлично знала все залы, их достоинства и недостатки («Вам уже приходилось петь в West Road Concert Hall? Там на удивление прекрасная акустика, даже в последних рядах слышно изумительно!»), довольно метко судила об исполнителях. Очень огорчилась, что ничего не знала о концерте в Часовне Кингс-колледжа: «Я непременно приехала бы!» «Не расстраивайтесь, Елена Глебовна, этот концерт наверняка мы повторим осенью. Я лично вас приглашу…»
Посыпались тосты: с норвежской стороны – за крепость здоровья дорогого Фридриха: ох, как оно необходимо при такой интенсивной жизни; затем на редкость уместный тост уже бессильного приподнять зад мидовца – «за тонкий вкус… и шир… широч-ч-чайшие познания нашего умнейшего Фрица в областях… – (задумался ненадолго и рукой махнул), – да во всех, к едрене фене, областях!» – опрокинул стопку, и все засмеялись…
Гостей Фридрих потчевал хорошими бренди и водками, сам же скупо прихлебывал сухое красное (единственное, что позволили врачи после операции). Вокруг стола никто не суетился – лишь Чедрик возникал изредка, но вовремя, унести-принести – из столовой лестница вела вниз, в полуподвальный этаж, в кухню, где он и затихал, как и положено джинну, в бессловесной готовности к вызову.
Все уже прилично накачались и досыта напробовались закусок, хотя Фридрих время от времени патетически восклицал: «Помните о баранине!» Неаполитанские песни пошли по второму кругу, и Леон, криво улыбаясь, сказал Елене Глебовне, что при следующей встрече подарит ей свой новый диск: «Песни сицилийских нищих». Та благодарно встрепенулась, не учуяв его глубоко спрятанного бешенства.
В какой-то момент открылась дверь в полуподвал, и из кухни явилась и строевым шагом промаршировала к столу с огромным блюдом запеченных морских гребешков… водонапорная башня – так выглядела эта могучая старая женщина с мощным задом и маленькой головой, гордо несущей седой кукиш на затылке. Да, Берта была Большой. И не такой уж старой, и очень бодрой. Сгрузила блюдо на стол, критически оглядела всю компанию. Уперлась взглядом в Айю, охнула и укоризненно покачала головой:
– Мы что, не знакомы, а, мэйдел?!
Айя вскочила и с криком: «Берта!» – обежала стол и повисла у той на шее. Берта обстоятельно и невозмутимо обняла, осмотрела «мэйдел» со всех сторон. Небольшой оперный немецкий Леона позволил различить басовитые: «Ты такая красивая, чертовка. И дорогая!.. Который же твой жених? Какой-нибудь богатый черт, а? – По кивку Айи нашла глазами Леона, скривилась и громко припечатала: – Нох айн казахе!» Фридрих одобрительно рассмеялся.
Берта принялась собирать тарелки из-под салатов, но тут неожиданно подал голосок Желтухин – будто, оставшись в одиночестве, почувствовал необходимость развлечь себя самого. Большая Берта застыла, бросила тарелки на столе, ринулась в гостиную, и через мгновение оттуда донесся ее изумленный вопль:
– Oh! Ein Vogelchen! Ein Vogelchen![6]
И завился басовитый и умиленный разговор-пересвист растроганной старухи с заскучавшим кенарем. Желтухин воспарил и, вдохновленный благосклонным вниманием, сыпал и сыпал новыми коленцами.
– Das muß ich dem Junge zeigen![7] – послышался энергичный голос Большой Берты.
Она появилась в дверях столовой с клеткой в руке и, не обращая внимания на гостей, крикнула Фридриху:
– Ein Vogelchen! Das will ich mal dem Junge zeigen![8]
Тот отозвался на немецком (судя по интонации – недовольно и малопочтительно, насколько это позволяла общая мажорная тональность вечера); из всей фразы Леон различил: «старая корова» и «чтобы не смела соваться, и вспомнила, как в прошлый раз…» – что-то в таком роде. Могучая старуха явно плевала здесь на всех, и на хозяев, и уж тем более на гостей.
Сквозь шумок застольного разговора слышно было, как топает она по лестнице, похохатывая и приговаривая:
– Юнге, юнге! Смотри, кого я тебе несу!
Медленно и едва заметно Айя выпрямилась на стуле – так выпрямляется скрипичная струна, подкрученная на колке. Одними губами Леон спросил, неподвижно скалясь: «Он здесь?» И она чуть прикрыла веки, побелев настолько, что темная пудра, которой она тронула скулы, зацвела двумя багровыми пятнами, горящими, как от пощечин.
Леон перевел дух, обернулся к Елене Глебовне и повел оживленный разговор о парижских премьерах. «Лючия де Ламмермур» в «Опера Бастий»… О да: бесподобное сопрано молодой японской певицы. Знаете, масло в верхах и бриллиантовая россыпь в среднем регистре…
К разговору, хвала милосердным богам, подключилась пожилая пара юристов – тоже меломаны, театральная публика, всё наши кормильцы, дай им бог здоровья. И дай мне хотя бы минуту… не успокоения – какое там успокоение! – но выдержки, пока где-то наверху скачет в клетке безмятежный Желтухин, лакмусовая бумажка на «грязную бомбу», славный маленький диверсант…
Он напрягал свой фантастический слух, чтобы уловить хоть дуновение звука там, наверху… Бесполезно: и дом построен основательно, и, несомненно, тут поработали над звукоизоляцией отдельных комнат.
Он улыбнулся Айе, кивнул на стол: ешь, моя радость, не сиди как приговоренная к повешенью… И та послушно вцепилась в вилку и нож, будто приготовилась к бою.
Вероятно, все было очень вкусным. Леон что-то жевал между фразами, слегка поворачивая голову то к Елене, то к моржовому усу – тот вспоминал драматическую судьбу Робертино Лоретти («Вы просто по возрасту не можете помнить его бешеную славу… Его пластинки расходились миллионными тиражами. Вот это была слава! Но в один прекрасный день – обычная история – у парня началась мутация…»).