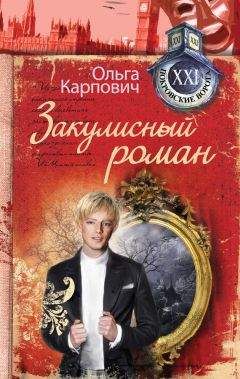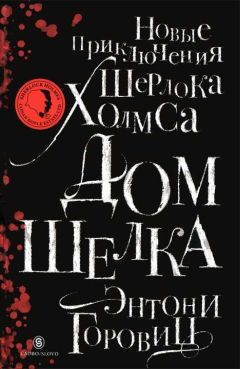Левандовский неотрывно смотрел на меня, и губы его кривились судорогой.
– Но кто-то же все-таки его замочил? – с интересом осведомился Гоша.
– Не выгораживай его! – орала Ксения. – Я докажу! На суде он еще вспомнит, как издевался над нами!
– Да пошли вы все в жопу! – рявкнул Влад. – Полкурса, оказывается, ошивалось в инсте в тот вечер – хоть бы кто-то мне первую помощь оказал.
– Ну, конечно, она врет, – всхлипывала Катя. – Наверняка она тоже была влюблена в Вацека, как и я, и все остальные девчонки с курса. Просто много о себе воображала.
– Подождите! Послушайте! – не унималась я. – Я приехала в институт, чтобы сказать Багринцеву, что отказываюсь от роли. Не потому, что я, как предположила Катя, была влюблена в Вацлава. Не из каких-то благородных побуждений и соображений мировой справедливости. Просто… Я всегда понимала, что Левандовский гораздо талантливее меня, я знала, что без него спектакль проиграет. Что с его участием нам, возможно, удастся сделать что-то выдающееся, такое, чего никогда еще не было на студенческой сцене. А со мной получится всего лишь рядовая добротная постановка, хотя немного и вызывающая, учитывая мою половую принадлежность… Именно это я хотела сказать Багринцеву, когда поднималась в его кабинет.
– Что ты говоришь?! – вскрикнул вдруг Вацлав, до боли сжав мое запястье.
– Это правда, Вац, – подтвердила я. – Ты же сам говорил: я вечно пытаюсь не запачкаться. Вот и в тот раз я понимала, что Багринцев, поддавшись раздражению, может погубить спектакль, и не хотела принимать в этом участие. Но, когда я вошла к нему в кабинет, поняла, что он не способен сейчас принимать решения. Он был страшно возбужден и рассержен. Рана на голове была кое-как залеплена салфеткой, и кровь уже запеклась. Евгений Васильевич отхлебывал коллекционный коньяк прямо из бутылки и лихорадочно рылся в своих многочисленных ежедневниках и записных книжках. Я бросилась к нему: «Что случилось, Евгений Васильевич? Вы упали? Ударились? Может быть, вызвать врача?» «Аа-а, вот и ты! – он поднял глаза на меня. – Очень хорошо, ты будешь свидетелем!» «Свидетелем чего?» – не поняла я. А он заговорил бессвязно: «Этот проклятый мальчишка возомнил себя властелином мира. Думает, ему удастся меня запугать какими-то карточками. Щенок! Я обращусь в прокуратуру… Где же у меня тут был записан номер?..» «Ты! – Он ткнул в меня пальцем. – Ты подтвердишь, что он напал на меня! Угрожал! Пытался убить! Я его засажу так далеко, что он и вякнуть ничего не успеет». Багринцев тяжело поднялся из-за стола. Я видела, что ему нехорошо: лицо у него было бледным, губы посинели, по лбу катился пот. Он машинально разминал левое плечо, локоть. Я догадалась, что у него плохо с сердцем. «Евгений Васильевич, у вас есть валидол? – спросила я. – Подождите, посидите минуту спокойно, я вызову «Скорую». Но он не слушал меня. Он распахнул шкаф, вывалил еще кипу бумаг прямо на ковер, хотел нагнуться и вдруг схватился за левую сторону груди, охнул и начал медленно оседать на пол. Я выскочила из кабинета, вбежала в деканат, где уже собрались на заседание кафедры его коллеги, и закричала: «Евгению Васильевичу плохо! Скорее!» Все пришло в движение. Преподаватели бросились по коридору в его кабинет. Кто-то уже рвал с аппарата телефонную трубку. Кто-то теребил Багринцева, пытаясь неумело сделать массаж сердца. Приехавшая «Скорая» установила обширный инфаркт. Врач заметил рану на лбу, но я сказала, что Багринцев ударился, падая. Потом мне сообщили, что, когда его довезли до больницы, он был уже мертвым.
Я обернулась к Вацлаву, смотревшему на меня безумным, остановившимся взглядом. Я взяла его за руку и сказала мягко:
– Ты не убивал его, Вацлав. Ты не виноват в его смерти. Не мучай себя!
– Ты не понимаешь… – пробормотал он, глядя куда-то мимо меня пустыми глазами. – Не понимаешь… Он обманул меня. Он всегда знал…
Я не успела ему ответить – ко мне подскочил Гоша.
– Так я не понял! – заорал он. – Так это че, не было никакой мокрухи, что ли?
– Я ненавижу вас, всех ненавижу! – в голос зарыдала вдруг Ксения. Она кинулась к стене и принялась дергать на себя массивный фотографический портрет Багринцева. Он никак не поддавался, гвоздь ходил туда-сюда, сыпалась штукатурка. И Ксения, обессилев, рухнула на пол и запричитала:
– Я так хотела, я так мечтала… Этот старый маразматик испоганил мне всю жизнь! Я вышла за него замуж – мне было двадцать четыре, а ему пятьдесят три! Я преклонялась перед его талантом, а он погубил мою молодость, он сделал из меня параноидальную истеричку. Он так и норовил сбежать из дома, чтобы трахаться где-то на стороне. Я заставляла себя подозревать каждую юбку, не хотела верить в очевидное: что он еще и грязный извращенец. Играла роль преданной жены великого гения. Мне так хотелось… хотя бы после его смерти доказать, что все было не напрасно. А вы… вы выволокли на свет всю эту грязь, вы все уничтожили, все сломали…
Она рыдала низко и страшно. Катя бросилась к ней с утешениями. Влад схватил со стола бутылку и жадно приложился к горлышку. Ника подошла ко мне, ухватилась за мое плечо, шепча:
– Мамочка! Я не хочу больше здесь, мне… мне так гадко… Поедем домой!
– Сейчас. Сейчас поедем, доченька, – пообещала я и, оглянувшись вокруг, спросила: – А где Вацлав?
В поднявшейся суматохе он успел куда-то исчезнуть. Исчез и его агент. Влад пожал плечами. Ксения взвизгнула:
– Не знаю, не знаю! Будь он проклят, мерзкий извращенец! Чтоб он сдох!
И мне вдруг снова стало страшно. Я поняла, что это еще не конец. Что-то еще должно было случиться в этот безумный вечер.
– Катя, – попросила я, – отвези, пожалуйста, мою дочь домой. Ника, ежик мой, успокойся, успокойся, милая, все хорошо. Я скоро вернусь, обещаю.
Я выбежала из здания театра. На улице свирепствовала настоящая зимняя метель. Тусклые огни фонарей дрожали и двоились во взбесившейся снежной мгле. Ветер забрался ко мне под распахнутое пальто, дернул шарф на шее. Из-под ног взметнулась злая поземка. Я добежала до машины, запрыгнула в салон и захлопнула за собой дверцу, отгородившись от взбунтовавшейся стихии.
Я должна была найти Вацлава. Мне нужно было его увидеть, опередить, что-то остановить. Что именно – я не знала сама.
Метель… Снег в лицо… Ледяные капли на веках, как замерзшая речная вода. Мрак и смутные вспышки света, размытые тени в метели. Красные светящиеся цифры на светофоре мигают в такт пульсу. Хочу закурить. Ветер ломает сигарету в пальцах.
– Ты не убивал, – свистит ветер.
– Он был жив, жив, – стонет хлопающая на ветру дверь подъезда. Все могло быть иначе.
Желтый прямоугольник с черными шашками вспыхивает в снежном вихре. Я поднимаю руку, останавливаю такси.
– Куда едем?
Водитель оборачивается ко мне. У него лицо мертвеца: землистая, зеленоватая кожа, бескровные провалившиеся губы. Я в страхе отшатываюсь, захлопываю дверь. Опять холодное снежное крошево.
Я шел вперед и бессмысленно читал вывески. «Стоматологическая клиника «Улыбка», «Кафе «Рандеву», «Ткани. Швейные принадлежности. Фурнитура». Стас… Да, он знал все, с самого начала знал. Я говорил ему, что погубил свою душу, что я убийца, а он ни разу не возразил мне.
«Цветы. 24 часа». Интересно, кто покупает у них букеты ночью? Наверняка толкают из-под полы белый, оборудовав для прикрытия цветочную палатку. Белый, белый… Снег белый, белое лицо Багринцева на ковре…
Почти двадцать лет на меня глядели его усталые, печальные глаза. Я жил в вечном страхе, с криком просыпаясь по ночам. Я не мог ни с кем связать свою жизнь, боялся долгих, серьезных отношений, предпочитая случайные, короткие романы. У меня нет ни одного близкого человека – ни любовника, ни друга, ни семьи – из-за страха разоблачения, что однажды проговорюсь, выдам себя, и сразу станет очевидно, какое я чудовище.
Нужно ехать, ехать куда-то. Эта метель… Я вспомнил вдруг тот вечер, когда стоял на балконе общежития с Адой и воздух пах снегом. Я любил ее? Наверное, любил, да… Мне так хотелось подчинить себе ее презрительное спокойствие, стащить с ее лица горделивую маску. Я хотел поцеловать ее тогда. Все еще могло получиться. Я бы мог жениться на ней… Любил ее, больше всего на свете тогда любил. В тот вечер я еще не был убийцей. А потом…
Я едва не налетел на пару подростков, самозабвенно целовавшихся в подворотне. Девчонка взвизгнула и засмеялась. Парень загородил ее собой, защищая от неуклюжего прохожего. Мы с Адой могли бы так же целоваться в метели. Восемнадцать лет назад.
Я бы вернулся тогда. Если бы знал, что он не мертв, только потерял сознание, я бы вернулся. Я бы помог ему встать, остановил кровь. Я бы умолял о прощении, на колени бы встал, только бы он остался жив. И он простил бы меня, мой чуткий, мой великодушный учитель. Не было бы никакого инфаркта. Мы вместе сожгли бы фотографии, а потом бы пришла Ада и сказала, что отказывается от роли. Все было бы иначе, все.