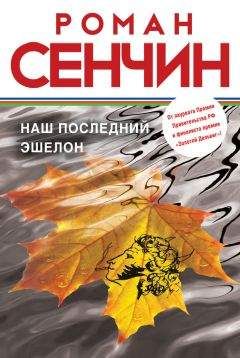Ознакомительная версия.
Классный он парень, добрый, несмотря на всю долбоебень армейской житухи. Другие давно обозлились, того и гляди – или в морду залепят, или еще чего покруче сотворят. Есть в Арбузике что-то детски-девичье, что-то домашнее. Может, поэтому меня к нему и тянет… Служит он нормально, не гнется, но и без особых залетов; лучший сейчас специалист по «системе» – поэтому пока и не увольняют его. Комтех у нас молодой, самого надо учить еще да учить, вот Арбуза и держат до крайней возможности, чтобы совсем вся охрана к чертям не пошла. Хотя… хотя скоро, думаю, всё кончится. Кому служить?
Вот наших дедов здесь было одиннадцать человек, потом фазанов (это которых весной забривают) – семеро, нашего призыва, в общей сложности, девять. Новых фазанов – трое, наших сынов – пять. И совсем молодых весенников – два человека. Мы с Арбузиком дембельнемся – тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, – останется десять бойцов. К тому же один из наших сынов сейчас в отпуске по семейным обстоятельствам, другой – в госпитале (поскользнулся, удод, ключицу сломал). А для службы надо, блин: три часовых в сутки (две колонки каждому по четыре часа), два чела по два наряда на правый фланг по КСП, два – на левый. Считай, уже семеро. Да еще двое дежурных по заставе (по двенадцать часов сидеть, следить за аппаратурой). Девять. Кочегаров, по идее, – двое. Это сейчас тепло относительно, так один Арбузик справляется, по ночам только топит. Повар тоже нужен, гужбанщик, водилы два… Тасуют нас так и этак, но по тревоге вообще некому выезжать бывает.
А тревоги – сработки – частенько случаются. И тогда гонять в «черепе» к «системе» начальник заставы, комтех и Арбуз, водила, само собой, и собачник с овчаркой должен; только нету у нас уже ни одной собаки – перевелись… Так… А в заслон на шестьдесят шестом и пяти человек не наскребешь. А какой это заслон, если пятеро рассредоточены на несколько километров? Запросто «яшка» проскочит и не особенно хоронясь – так, если в курсе, сколько нас, прогулочным шагом…
Задви-игались. В окнах канцелярии, кубрика слабый свет фонарей и зажигалок. Проснулись, собираются проводить Лысона домой. На гражданку… Да нет, до гражданки еще далеко – еще в отряде помучиться предстоит. Вещи сдать по описи, получить в штабе военный билет, то-сё. И на губу напоследок загреметь можно запросто. Отрядное офицерье с жиру бесится, за любую мелочь может упечь. И сиди тогда вместо поезда в подвале, в дембельской парадке под конвоем ходи.
Не тороплюсь покидать разряжалку, наблюдаю за дверью. Да и поймай меня Пикша конкретно здесь закимарившим или даже на кухне за жаркой картошки (а было бы электричество, я, само собой, постарался бы намутить какой-нибудь хавчик), ничего страшного ему не сделать. Повизжит, побесится, на худой конец еще четыре часа накинет. Хотя это вряд ли совсем: все мы так измотаны, что можем натворить любых ужасов. Наши офицерики это понимают – самим не очень-то сладко.
Что-то не могу припомнить, когда в последний раз спал положенные восемь часов зараз; а были времена – по воскресеньям устраивали иногда «мертвые» дни. В субботу пидорили помещения с пеной, оружие начищали, потом – баня с раскаленной парилкой и холодным компотиком, а в воскресенье дрыхнули до упора или телик смотрели. Когда народу нормально, можно расслабляться время от времени. Теперь же и дежурку моем редко, в баню заползаем – лишь бы грязь смыть, телевизор стоит в Ленинской комнате запыленный, забытый. Теперь – только бы сожрать чего-нибудь, упасть на кровать; даже парадку нет сил забацать как следует. Какие там вставки в погоны, аксельбанты, шевроны, брелоки из патронов, растянутые фуры! В любой рвани, лишь бы скорее отсюда. Отсюда, домой.
А как там будет, думать пока не хочется. Там будет видно…
* * *
На крыльцо вывалилась группка ребят с фонарями. У всех сигареты, дымят вовсю, громко, смакуя, затягиваясь. Стукнула гитара о перила, жалобным звоном задрожали струны… Среди грязных заполярок, бесформенных лепешек вечно мокрых ушанок выделяется шинель Лысона, зеленеет висящая на левом ухе фуражка.
Тихий, но возбужденный бубнеж осипших, хрипловатых со сна и простуды голосов. Смотрят на дембеля, точно прокаженные на здорового человека, готовые в любой момент сорвать с него одежду, натянуть на себя. И Лысон видит их зависть, ему неловко, ему тягостны эти минуты. Но терпит – последние минуты здесь все-таки.
– Курить осталось? – спрашиваю, подходя к крыльцу. – Где дембельская колодка?
Макар – длинный, слишком, как дистрофан, худой паренек весеннего призыва, плохо в чем разбирающийся, вечно перепуганный и голодный, – смотрит на меня, глупо мигая, прячет в кулаке окурок.
– Ну-ка, Макар, колодку живо сюда!
– Ага! – Метнулся на заставу, дверь со свежими пружинами яростно хлопнула.
– Что, Лысон, собрался?
– Да-а вот… – Он коротко взглянул на меня. – Может, и ты завтра… – пытается успокоить.
– Может, – соглашаюсь без особого энтузиазма…
Балтон, наш гитарист, хреноватенький правда, отщелкнул докуренный до фильтра хобец.
– Что, парни, споем?
– Давай, – поддерживает Арбузик, – погорланим, Лысон, напоследок.
Балтон щиплет струны, подтягивает колки.
Появляется Макар с деревянным бруском, где обычно стоят капсюлями вверх, в специально насверленных ямках, патроны по пятьдесят штук. Когда идешь после наряда докладывать, несешь в бруске вынутые из магазинов патроны: дескать, показываешь офицеру, что все нормально, оружие не применял… Сейчас в ямках вместо патронов сигареты – это и есть дембельская колодка, – ими угощает увольняющийся оставшихся тянуть службу.
– У-у, молодцы, хоть три штучки деду оставили, – укоризненно покачиваю головой, вытаскивая сигареты; две спрятал во внутренний карман кителя, одну скорей закурил.
Нестройно, жидко ползет забойная в общем-то песня. Лишь на припеве голоса крепнут, со злорадной веселинкой обещают:
Кто не был – тот будет,
Кто был – не забудет
Семьсот тридцать дней
В сапогах!
Лысон, стоя в центре, рядом с гитаристом, смотрит на пальцы Балтона, повторяющие по кругу три простеньких аккорда, кое-как подпевает. Лицо у него кислое, точь-в-точь как у мучающегося зубами Лехи Орлова, нашего сына по кликухе Орёль (мол, проводишь нас, Орель, переименуешься в Орла), – тот, с раздутой щекой, подплывшим глазом, тоже пытается петь, не отрывая глаз от дембеля. Что ж, Орель, годик тебе еще… Всего лишь годик. Целый огромный, бесконечно длинный годище…
А молодым фазанятам вообще полные вилы. Помню я проводы их прадедов, точнее – прапрадедов, и полтора с лишним года, что лежали впереди, казалось, пережить нереально, и вдруг вот переживший их, добравшийся до дембеля, представлялся мне сверхчеловеком каким-то, сказочным богатырем, осилившим огни, воды, медные трубы и прочий убийственный беспредел.
Нет, пройдут они, эти чертовы годы, пройдут, не боись – оглянешься и поразишься, и не поверится, что – всё. Почти всё.
И останется главное: пережить всего-навсего последние две-три недели, как-нибудь додержаться, дотерпеть. И тоже не верится – не верится до самой телеграммы о твоем дембеле, что дотерпишь, еще даже сильнее не верится, чем все два года, оставшиеся теперь позади. Два года, из которых три месяца прошуршал в отряде, на так называемом курсе молодого бойца, а остальные полтора с лишним года – застава. День за днем в одном и том же месте, среди тайги и болот, в окружении двух десятков одних и тех же людей, занимаясь одним и тем же, протапывая ежедневно по двадцать-тридцать км, питаясь в основном всякой дрянью, хватая сон по минутам, тупея, грубея и (скрывая, заслоняя от самого себя главное мыслями о еде, о сне, о том, как бы похитрей косануть от службы) постоянно думая о доме, о родителях, о девчонке, которая могла бы быть, да благодаря армейке нету… Но все равно, все равно он придет, этот долгожданный и проклятый дембель. И за мной придет машина.
* * *
Гул на левом фланге. Далеко, за сопками, за стеной леса. Другие еще не услышали, а я уловил. Даже сейчас, когда рядом поют, переговариваются и я тоже подпеваю, как могу отвлекаюсь от ощущения, что я в наряде, я все же, против своей воли, в первую очередь – часовой и инстинктивно обращаю внимание на посторонние тени, звуки, движения.
– Тихо! Идет, кажется.
Парни притихли, напряглись.
– Точняк.
– Ползет, родимый.
Старый фазан, водила Салыч, говорит, извиняясь:
– Вот, Лысон, не получилось мне тебя на станцию прокатить. А хорошо б, с ветерком!..
– Н-да… – якобы расстроенно вздыхает дембель, но на самом-то деле ему наплевать, кто его повезет; важно одно – повезут.
Постепенно расплывчатый гул перерастает в урчание. Теперь ясно, что это грузовик, скорее всего «ЗИЛ».
– Э, Макар, – говорю, – пойди Терентию скажи, что машина с левого фланга. Пускай Пикше доложит.
Лысон нервничает, схватил «дипломат» и жадно смотрит туда, где все растет и крепнет звук мотора.
Ознакомительная версия.