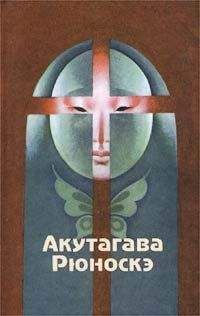– Жу-лик! День-ги ста-щил! По-мо-ги-те!
О нашем отъезде из Голяков никто не узнал. Мы даже успели в поле два дня поработать. Про Москву Кукушатам рассказали немного. О том, что Кремль заперт, что товарищ Сталин ментами охраняется. И еще про Кукушкину, про ее слова, чтобы никого мы не искали. Никого уже нет в живых.
Думал, начнутся споры. Но никто из Кукушат с разговорами не лез. Хотя по глазам было видно, что каждый эту новость примеряет лично на себя. Только вслух обсуждать не хочет.
Но я и сам спасался, не хотел вопросов. Про родственников же, которые меня выперли, глухо молчал. И Хвостику, и Сандре велел молчать. Так же, как про встречу с матерью. Да и была ли мать? И мать ли это за дверью отвечала? А кто ее видел, что она мать? Кто?
Сандра всю обратную дорогу проплакала.
Я знал, что она плачет о тете Дусе.
Когда мы отыскали наш вокзал и поезд, у третьего вагона торчал вместо тети Дуси мужик с хитрой рожей, конопатый, и только мы назвали тетю Дусю, послал нас подальше. А худенькая женщина от соседнего вагона окликнула нас:
– Вы Кукушкины? Дуся говорила про вас… Что вы придете! До Голятвина… Я подмогу.
– А сама она где? – спросил я.
– Приболела, – ответила проводница.
А мужик из третьего вагона крикнул зло:
– Как же! В пьяном виде под колесо влетела! Такая у нее болезнь!
– Ты, Егор, молчи, – сказала с укором проводница. – Ребятам это неинтересно знать, – и увела нас к себе в вагон.
Теперь Сандра плакала, молча плакала о тете Дусе, которая, конечно, ни в какой не в больнице, раз под колесо попала… А еще она плакала потому, что в Москве у нее слезы накопились. У всех у нас слезы накопились. Я бы тоже в слезы ударился, да у меня после разговора с тем самым голосом, что за дверью, внутри спеклось. Та к спеклось – временами дышать не мог: грудь болела.
А вообще-то я про Москву понял: это как наш «спец»… Они думают, что живут в городе, а они запертые, как в «спеце», живут. И Сталин, если посудить, в «спеце» живет. Какая разница, снаружи его охраняют или внутри!
Получается: никуда из Голяков и ехать не надо! Везде одно и то же! Везде свои чушки и свои наполеончики, как бы они ни назывались. И везде мы виноватые. Только неизвестно, в чем мы виноватые. Вообще виноватые. Виноватыми такими родились, значит.
В той «Истории», что я ношу за пазухой, сказано, что первое стихотворение, созданное человечеством, называлось: «Жалобная песнь для успокоения сердца». Там человек, наверное шумер, раз они стихи-то написали, тоскует в своем одиночестве, не зная, кому он нужен в этом мире… Господи, неужели и тогда, когда только все родилось, было так плохо? Обидно, конечно, что само стихотворение не напечатано, но я его и сам бы придумал. Ведь чем-то сердце должно умиротвориться, если дальше жить нельзя, а жизнь еще продолжается… И ты даже не попал под поезд, который тебе уже приписали.
Про шумеров в «Истории» вообще непонятно написано: «Генетические связи не установлены». Исчезли, словом. А откуда пришли и куда исчезли, неизвестно. Как мы, Кукушкины. Произошли от кого-то, а от кого – неизвестно… В предчувствии своего исчезновения они и сочинили свою жалобную песнь.
Мы-то ничего не сочиним. Уйдем молча, немые, как Сандра, и никто нас не услышит. Не пропоем. Не прокричим свою жалобную песнь… Кому она нужна? Людям вообще не нужна правда. Им нужно вранье. Они хотят так жить. И они хотят, чтобы мы тоже так жили. То есть чтобы врали. А если мы не хотим их вранья, то мы и не нужны. Вот что мы после Москвы поняли.
Но вот о рождении – отдельно.
Я еще в поезде продумывал одну бредятину, которая меня мучила.
А Кукушат спросил:
– Вы видели мой документ о рождении?
– Видели, – сказали они.
– Так вот, через два дня будет шестое сентября.
– Ну и что?
– Так я родился шестого сентября.
– Ну и что?
– Это мой день рождения!
В общем, они меня не поняли. Я и сам не понял, что я хотел сказать. Но я знал: что-нибудь сделаю. До Москвы, до поездки, не сделал бы, а теперь мне все равно было. Потому что я другой вернулся. Как заново родился.
Когда мы в «спец» с поля возвращались, я от всех отстал и на станцию зашел.
Я запомнил тот подвал, где мы с Машей встречались. Спустился вниз по крутым каменным ступенькам и сразу увидел повариху, она стояла ко мне спиной, что-то поедала из тарелки.
Я подозревал, что повара на кухне жрут всегда. Если бы я был поваром, я бы тоже жрал, напихивал бы в брюхо побольше, пока никто не видит.
Поварихе я сказал в спину:
– Здравствуйте! – Чтобы она не подумала, что я подглядываю, как она тут жрет.
Она вздрогнула и повернулась ко мне:
– Филиппка можно увидеть?
С открытым ртом, не успев прожевать, она промычала и показала пальцем в потолок. Наверное, это означало, что Филиппок сейчас наверху, в ресторане. В общем-то я и сам мог догадаться, что он наверху, но в ресторан, я знал, меня одного никто не пустит.
– Вы его не позовете?.. Он мне нужен… Он меня знает!
Я ныл, а повариха жевала. А прожевав, чмокнула губами и произнесла хриплым басом:
– Так и побегу! – Потом подумала и добавила: – Жди, если хошь, когда придет, – а сама ушла в свою поварню.
Я долго стоял столбом, пока не появился Филиппок, в руках у него была груда грязных тарелок на подносе. Он увидел меня, но не удивился и интереса ко мне не проявил, а занялся своим делом. То есть стал мыть тарелки. А я продолжал стоять.
Потом решил подать голос:
– Я к вам… По делу…
Филиппок ничего не ответил, даже головы не повернул.
– Я вот хотел показать… Чтобы посмотрели…
Филиппок наконец домыл свои тарелки, вытер о фартук руки и не спеша подошел ко мне. Посмотрел на книжку, опять вытер руки и стал после этого ее листать с вежливо-внимательной миной. Прочитал фамилию, открыл страницу, где стояла сумма, и ничего в нем не изменилось. Он спросил, так же как спрашивал тогда у Маши в ресторане «Что будем кушать?»:
– Егоров – ты?
Я кивнул.
– Чего же ты хочешь?
Я произнес давно заготовленное слово:
– Поесть.
– Сейчас?
– Не-е, шестого сентября…
Он не поинтересовался, почему именно шестого, но уточнил:
– Один? Вдвоем?
– Больше, – сказал я.
– Сколько же?
– Много, – повторил я. – Пятьдесят… А может, сто…
Его никак эта цифра не поразила. Он кивнул так, будто сто гавриков из «спеца» к нему приходят поесть чуть ли не каждый день. Но может, он не знает, что это именно сто гавриков из «спеца»?
Я добавил:
– Сто, как я… У нас праздник… Понятно?
Он не ответил, а с книжкой в руках ушел в соседнюю комнату. Вернулся вместе с поварихой. Сейчас она глядела на меня вовсе не как на стенку, а даже с интересом.
– Твоя книжка-то? – спросила она. – Али стащил у кого?
Я в общем-то ждал такого вопроса и сразу на него ответил.
– Книжка эта моя, – ответил твердо. – Вот моя метрика. Там написано, что я Егоров.
Повариха взяла метрику и показала ее Филиппку. Я подумал, что она сама, наверное, читать не умеет. Еще я заметил, что они между собой перемигнулись.
Она отдала мне метрику, а книжку оставила себе, засовывая в какие-то свои необъятные недра за пазухой.
– У меня-то сохраннее, – произнесла уверенно, будто каждый день ей приносили десятками такие сберегательные книжки.
– Но там много… Там и мне и вам…
– Конечно, – сказала она приветливо. – Поделим как надо. Приходите.
– Но нас много, – снова напомнил я.
– Ну, ясно, что много.
– Когда?
– Ну когда хошь… Можете и с утра. В это время у нас ресторан закрыт. Вино-то пить будете? – И она опять как-то по-особенному взглянула на Филиппка.
– Вино обязательно, – решил я. – И еще, чтобы пришли эти… Ну, которые «соль! соль!».
– Будет вам соль, – пообещала весело повариха. – И перец тоже будет!
Филиппок при этом вежливо кивал, будто хоть сейчас готов был бежать, чтобы исполнить все мои пожелания.
В этот день среди «спецов» слышалось:
– У нас сегодня Серый родился! – И объясняли: – Ну, он из Кукушкина в Егорова родился!
В ответ пели:
– «И в кого я только уродился…» Тра-та-та, тра-та-та!
В ресторане, прямо на дверях, я посадил на хлебный мякиш свой документ, чтобы все, не только «спецы», а и проходящие какие мимо люди знали, в кого же «я только уродился!».
В самом верху плотной, зеленоватой с разводами бумаги прямо посередке стоял огромный герб, а рядом: «НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ».
Это уже мы знали: милиция! Она нас, бедная, пасла вон с каких пор! С родов, значит! Вот они и свидетельствовали, что, мол, такой-то и такой-то произведен на свет, смотрим, следим, наблюдаем: чего из него выйдет… то есть куда, мол, он покатится! А мы тут как тут – свидетели… Поэтому небось вверху крупно обозначили: «СВИДЕТЕЛЬСТВО».
И далее, судя по всему, обо мне: «Гр. Егоров Сергей Антонович родился (лась) 6 сентября 1933 года, о чем в книге записей актов гражданского состояния о рождении в 1933 году 10 сентября месяца произведена соответствующая запись».