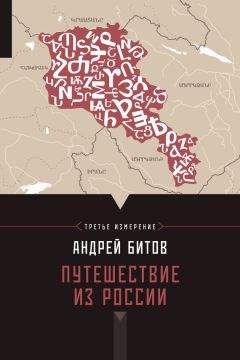…Некоторое время мы шли молча. Такотян раздражал меня, мне хотелось побыть одному, с мыслями, столь странно разбуженными. К тому же я опасался, что Такотян начнет сейчас посмеиваться над стариком, чтобы показать, что эта болтовня про мир и космос его, такой он развитый, нисколько не трогает. И когда он открыл рот, я сжался, но он сказал вот что:
– Ах, что бы с нами было, если бы его не было? Нельзя представить. Словно и нас бы не было.
Конец (звонок)
Вот и светать начало. Я рвусь к цели, почти потеряв ее из виду. Цель у меня сейчас – уже только конец. Под утро моя машинка стучит, как сердечко, и вместе с ним. Все шустрее и невернее, с перебоями. Позванивает, нарываясь на конец строки.
Очерк, акнарк, намек…
Очерк намечен, очерчен.
Господи, держишь ли ты меня за правую руку?
Я старался. Я пытался быть честным, я пытался быть точным. И мне уже не хватало сил стараться еще и быть понятным. Я рискую быть непонятым и русскими и армянами. Кто я такой, чтобы брать на себя всю эту речь? Да никто. Но никто и не говорит за меня. Я рискую быть непонятым, адрес мой двойствен и неточен. Материал может показаться любопытным русскому человеку, поскольку он так же плохо или еще хуже знает Армению, и тут я проскочу со своим невежеством и наивностью первого взгляда. Чувство же – оно зрелее у меня – более, быть может, будет понятно армянам, чем русским…
Я очень мало знаю Армению и ни на что не претендую. Поэтому-то и возникла форма уроков начальной школы, учебник своего рода. Я не мог создать сколько-нибудь объективную и точную картину, кроме картины собственного чувства. Я бы назвал свой очерк «Армянские иллюзии», если бы уже не назвал и не построил его иначе. Я написал любовно и идеально чужую мне страну, но люблю-то я не Армению, а Россию, «ее не победит рассудок мой».
Свою-то родину я знаю, по крайней мере постольку, поскольку я в ней родился и прожил столько, сколько живу на свете, – а как еще что-нибудь можно знать лучше? По сути, эта моя Армения написана о России. Потому что с чем сравнивает, чему удивляется путешественник? Сравнивает с родиной, удивляется несходству: тому, чего у него нет, тому, чего ему не хватает, тому, что есть, но мало, мало. И лишь после этого уже тому, что одинаково, что сходится…
Но уж и Армении я обязан! И если я вернул хоть каплю той любви (конечно же, не гостеприимство, нет!), которой она меня столь настойчиво обучала, а именно – любви к своей родине, то я выполнил хоть и не первую, но и не последнюю свою задачу. Во всяком случае, если бы я родился снова, родился бы армянином на твоей земле, я бы безумно любил тебя, свою родину… В чем-нибудь это легче нашей «странной» русской любви.
– Я дал себе слово, – сказал мне однажды мой друг, – что никогда ни о какой другой нации ничего не скажу, ни дурного, ни хорошего…
И как я согласился с тобой!
И все же – грешу, грешу…
Но – старался быть точным. А никакой другой точности у меня не было, кроме той, что все со мной так и было. И в той самой последовательности. Даже в монтаже не допустил я перестановок во времени по отношению к действительному моему пребыванию в Армении. Вернее, монтаж этот не потребовался. Именно так набирало все силу, и именно в такой последовательности: сначала мне не очень нравился Ереван (если бы не мой друг, то и совсем не нравился), а потом самым сильным физическим впечатлением был Севан (я заболел), а духовным – Гехард, именно сразу после Гехарда выслушал я лекцию о прогрессивном градостроительстве и именно перед отлетом посетил старца, а после этого визита должно уже было вернуться домой: внезапно все обрело свою законченность.
Все могло бы быть и еще законченней… Задержись я на день, то поехал бы в Бюракан, где впервые в жизни посетил бы обсерваторию, и тогда был бы обязан Армении еще и звездами. И до чего бы точно это сейчас сюда легло вслед за старцем и его напутствием в космос! И повествование мое преодолело бы земное тяготение, а в ушах читателя еще долго звучал бы последний космический аккорд, даже после того, как он закрыл и отложил этот учебник. И долго бы смотрел он вслед моей ракете…
Очень многого не успел я повидать в Армении. Что можно успеть за десять дней?.. Я не побывал на знаменитых на весь Союз фабриках и заводах, пастбищах и виноградниках, не посетил лаборатории и институты… Да что говорить! Даже в погребах великого треста «Арарат» я не побывал и не попробовал!.. Я не видел многого из того, чем гордится Советская Армения. От моих заметок до энциклопедического очерка – огромное расстояние. Но так же далеко и энциклопедическому очерку до моих заметок!.. Правда и гармония первого впечатления – достояние, дающееся человеку раз в жизни, и этим можно и следует делиться, потому что за ним (первым впечатлением) простирается такое море познания, что можно, заплыв, потерять из виду все берега…
Я прожил в этой книге много дольше, чем в Армении, – и в этом уже ее содержание. Я прожил в Армении десять дней, а писал ее больше года – я прожил в Армении около двух лет.
Каждый день прибавлял мне так много, что описывать его приходилось месяц. У кого же мне занять сколько времени?..
Да, задержись я в Армении хотя бы еще день, читал бы сейчас читатель «Урок астрономии»! Но жизнь диктовала свою точность. В том-то и дело, что точность у жизни одна – та, что есть, и все остальное неточно.
Я сорвался с последнего урока и промотал астрономию.
…Я вернулся из школы на час раньше и застал дома тех, кто как раз в этот момент собирался, быть может, уходить из дому. Вернись я на час позже, то и не застал бы. И в этом – своя точность.
Виньетка
Как же я напился в первый свой день на родине! Помню, что встретил на Арбате Рогожина, а дальше ничего не помню.
Проснулся, думаю, в Армении. Но смотрю: сарай какой-то странный, сам я и одет и обут, а вместо чистой и тщательной постели, приготовленной руками жены друга или ее сестры, лежу это я на раскладушке, обернутый в тюремное одеяло. Глянул в окно: лужок, березы – дома! Слава богу!.. «И напиться-то можно только на родине!» – такова была моя первая, вполне патриотическая мысль.
Разулся я, побродил по мокрой траве, такой свежей – какое счастье! Голова чуть меньше болеть стала. Кто бы мог подумать, что и пятки с головой связаны?.. Разыскал друзей, сразу двух: они в другом сарае спали – но Рогожина среди них не было. Бочаров и Чудаков были их фамилии… Как вы сюда попали? А ты как сюда попал? – ответили они мне. Где мы? Ладно, чего спорить, похмелиться бы…
Тут и Рогожин – как из-под земли. Все объяснил, хороший человек. Что мы не где-нибудь, а у него на даче. Это мы в сараях, а он в доме спал, с женой и дочкой. Тут же поскребли мы по сусекам: копейка да копейка – рупь. Рогожин, тот пустой стеклотары еще насобирал… Нагрузили это мы Чудакова как самого молодого и на велосипед посадили. Выехал это он по кривой из ворот на большую дорогу и уехал, казалось, навсегда.
Увидел я жену Рогожина – вышла она с дочкой на руках на крыльцо. Обрадовался я ей, заулыбался и руками замахал.
– Глаза бы мои тебя не видели! – сказала она, но дала мне полную кастрюлю щей. А щи, вчерашние, еще трезвые, – утром единственная возможная еда.
Тут и Чудаков, к счастью, припетлял на своем велосипеде. Правда, фару разбил, но сам цел и бутылки целые.
Фара же ни к чему – и так светло.
И вот сидим мы вчетвером, утро такое хорошее, пьем «Розовое крепкое» и щами из кастрюли поварешкой захлебываем. Понемножку и разговор пошел. У меня на душе – Армения, как ссадина. Смотрю на друзей и от любви плачу:
– Как же это – где русские? А мы кто такие? А вот мы где!
И действительно, сидят передо мной Бочаров, Чудаков и Рогожин – уж такие русские, дальше некуда. Волос – русый, нечесаный, глаза – все голубые, как на подбор, немножко красные с перепою, как у кроликов, и носы все курносые, щетина же – рыжая. Такие красивые, не темные – светлые, и лица как у детей, вточь такие. И вдруг слово забытое поражает меня – отрок! Это же все отроки сидят, кому за тридцать, кому за сорок, а лица-то – отроков. Нетронутые совсем. Никакой мужской побежалости на лицах их нет. Даже щетина кажется первым пушком.
– Отроки мы! – кричу. – Нет и не было на Руси мужчин. Одни пришлые. Псы-рыцари, да варяги, да французишки! Старцы еще были, а теперь нет, теперь старики… Раньше, значит, отроки и старцы, а теперь отроки и старики. Вот оно в чем дело-то!
Смотрят тогда они друг другу в лица, как в зеркала…
– А ведь верно! – говорят.
Тут Рогожин и гитару взял.
Затерялась Русь в Мордве и Чуди,
Нипочем ей страх.
И идут по той дороге люди,
Люди в кандалах.
И вот уже нет меня – счастье одно. Это я – «в кандалах», это я «кого-нибудь зарежу», а «сердцем – чист». Роняю слезы в щи. Или:
В горнице моей светло,
Это от ночной звезды.
Матушка возьмет ведро,
Молча принесет воды…
Какое же поразительное уродилось на этой сырой земле слово! Русский человек – он весь в слове. Весь в слово вышел.