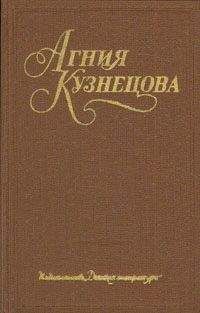Ознакомительная версия.
Знаки памяти. 2005
Он был старше меня лет на десять, а мне тогда исполнилось двадцать пять. Голос у него был глуховатый и опустошенный – оболочка голоса, словно кто-то уже выдул тепло дыхания из сипловатых звуков, издаваемых голосовыми связками. Он то и дело кашлял – то ли простыл, то ли что-то сердечное, – но я ободрилась: хорошая зацепка для начала нормального разговора – два-три вопроса о самочувствии, снижение самоубийственного пафоса…
– У вас там сильный ветер, я слышу?
– Ну да, – отозвался он. – Окно же распахнуто…
Я спросила о причине, которая толкнула его на подоконник, – оказалось что-то банальное, как всегда, банальное и непоправимое: жена ушла к родителям, забрав обоих мальчиков, без которых жить незачем.
– Сколько лет старшему? – Я мысленно подтянула шпагат, протянутый между нами, – еще провисший, никого не спасающий.
– Шесть. Младшему – три года.
– Почему она ушла? – спросила я проникновенно, одновременно раскрывая журнал, в котором мы фиксировали время разговора, темы, мои вопросы…
И он вдруг выпал из своей бесчувственности и горько забормотал что-то о преступной глупости, о бездарных, пошлых, абсолютно ничтожных обстоятельствах…
– Понятно, – сказала я спокойным, понимающим тоном. – У вас Другая женщина.
– Да нет! – крикнул он так, что я испугалась, как бы он не свалился от резкого движения. – Разве можно так сказать! Это – оглушение, ошибка, пошлость. Это чепуха, чепуха, понимаете! Разве это имеет какое-то отношение к нашей жизни!
Он сипло кричал, докрикивая через меня, сквозь мой голос то, что, наверное, не успел сказать жене, когда та уходила, судорожно хватая, что под руку попадалось из детских вещей. И в голосе его была такая горечь, что во мне забрезжила надежда: ведь горечь – живое чувство, она огорчает, отравляет, но не испепеляет душу.
– Судя по тому, как вы реагируете, – мягко проговорила я, – самому вам причина, по которой жена ушла, не кажется чепухой?
В эти минуты, лихорадочно вспоминая правила работы с суицидентами, я пыталась, как в конспектах было написано, говорить ровным умиротворяющим голосом. Я помнила все эти правила: что отговаривать нельзя, упоминать возможные зацепки за жизнь; нельзя взывать к чувству вины или упрекать в слабости… Есть специальные приемы: вы прислушиваетесь к дыханию в трубке и подстраиваетесь под него, постепенно его – дыхание – успокаивая… Только не чуяла я ничего – из-за шума машин, звонков трамваев и змеиного ветра, шипящего в ветвях за окном. Да и в нашем окне ветреная ночь безжалостно тискала кроны деревьев в парке.
– У нас тут тоже ходят трамваи, слышите? – спросила я.
И стала писать в журнале… Фиксация беседы с клиентом телефона доверия всегда выглядит нелепо и неловко – как человек, застигнутый при переодевании в кабинке на пляже. Да я и не Цезарь – три дела одновременно делать; но тут уж не до удобства: надо во что бы то ни стало ухитриться писать, слушать и говорить одновременно. Самым трудным было говорить медленно и уравновешенно.
Сейчас у меня большой опыт, а в ту ночь я действовала интуитивно, ровным тоном показывая ему, что совсем не боюсь, хотя с первой же его фразы поняла, что имею дело с человеком решившимся и что времени нам с ним отпущено совсем немного.
– Какой у вас этаж? – поинтересовалась я, сдерживая противную дрожь в голосе.
– Шестой, – сказал он. – Вполне достаточно, чтобы…
– Внизу – асфальт, трава?
– Тенты над витринами. Это не помеха…
Мы еще обсудили – что там внизу; я судорожно придумывала вопросы, он бесстрастно и спокойно отвечал. Нельзя было заострять его внимание на том, что внизу: с высоты смотреть трудно, в конце концов хочется прыгнуть.
– Вы думали о том, кто вас найдет?
– Ага, – отозвался он. – Главное, что ночь, детей вокруг нет. Неохота им демонстрировать, что бывает, когда череп раскалывается, правда? Заберут, увезут в морг – соседи меня знают, я ж здесь вырос…
– А хоронить кто будет?
– Ну, это, знаете, мало меня заботит, – сказал он. – Да что вы беспокоитесь? Или просто интересно? Тогда скажу: я мужик вполне, как говорится, состоявшийся, у меня друзей полно, приятелей, коллег… так что всего этого барахла… ну, этих венков-памятников будет навалом… Это все будет о’кей. Родители, слава богу, померли. Сеструха – та уж точно переживет. Как бы не стала судиться с Таней за квартиру родителей, мы в ней живем… жили… А Таня… ну, если она могла зачеркнуть всю нашу жизнь – понимаете? – всю жизнь… то она тоже как-нибудь переможется…
Минут двадцать мы обсуждали другие способы самоубийства. Он сказал, что обдумывал все два дня, и вот это – прыжок – самое для него простое, привычное – он три года занимался прыжками с парашютом. Сказал: это просто, наработано – шагнул и кочумай – и добавил:
– У меня прилично прыжков на счету… Могло же всякое быть. Мог когда-то и парашют не раскрыться…
– Вы думаете, это одно и то же?
– Да какая разница, – устало отозвался он. – Ладно, не хочу долго морочить вам голову…
– А как вы выглядите? – перебила я его, мысленно натягивая тонкий шпагат между нами до звенящей, почти осязаемой струны. – Пытаюсь представить вас, не получается. Вы могли бы себя описать?
– Господи, да зачем это… Вас действительно интересует или так положено спрашивать?
– И положено, – честно ответила я, – и самой важно: я терпеть не могу телефон за то, что лица собеседника не вижу. Голос – это дым, ничто… Отзвучал и растаял. Опишите себя, а?
– Нечего описывать… Среднего роста, волосы русые. Лицо… ну… самое заурядное. Таких, как я, в любом трамвае штук десять.
– И все же, мне кажется, вы должны нравиться женщинам…
– Да что вы, – равнодушно возразил он. – Никогда не мог понять, что во мне Таня нашла… Просто привыкла, наверное: с детства вместе.
Икры у меня под столом свело от судороги. Зуб на зуб не попадал, но я держала и держала его на этом шпагате, мысленно навалившись грудью на стопы его ног (он был в кроссовках, как выяснилось по его описанию). И тупо смотрела в наше окно, закрытое железной тюремной решеткой, остро сожалея, что не могу усилием воли перенести ее на окна его квартиры.
Несколько раз он пытался отделаться от меня, я слышала по голосу, как его с головой накрывает вал тоски и усталости, и вновь, усилием воли замедляя свой голос, задавала следующий вопрос… Наши голоса боролись над бездной; его пытался вывернуться, выскользнуть, улететь… мой – оплетал, как удав, завязывая узелки на шпагате, цепляясь за каждый повод, придумывая все новые повороты темы.
Ночное окно. 2009
Через час мы неожиданно перешли на «ты», когда случайно в разговоре выяснилось, что учились в одной школе, только он, разумеется, закончил на десять лет раньше. У него с женой, понимаете ли, школьная еще любовь. Сидели за одной партой.
– Ну знаешь, – сказала я. – Десять лет за одной партой – это сильно. Это посильнее, чем десять лет в одной постели.
Он опять закашлялся, а я испугалась – сейчас оступится!
– У тебя голос прерывается, – сказала я. – Слышу, как трудно тебе говорить. На твоем месте я бы глотнула че-нить горячительного… Есть что-то под рукой?
Я бы и на своем месте глотнула… да что там! – залила бы в себя хороший стакан водки, чтобы унять дрожь во всем теле.
Внутри у меня скрутилась воронка боли. Свело желудок и отдавало в низ живота – туда, где за полгода до того благополучно был вырезан аппендикс; прижимая ладонь к ноющему шву, слегка раскачиваясь и слегка раскатывая слова во рту, я приветливо и спокойно интересовалась – не холодно ли ему там, на ветру? Что он чувствует? Жжет ли внутри, или просто щемит сердце?
Мы говорили – так в журнале записано, и значит, это правда, хотя сейчас не могу поверить – 4 часа 23 минуты. Самым страшным был миг, когда он вдруг обо мне обеспокоился – не устала ли я. С одной стороны – знак хороший, переключился, значит; с другой стороны – я вдруг ясно увидела, как шагает он с подоконника, чтобы меня и дальше не утомлять.
Впервые маячок надежды на то, что мы выкарабкаемся, мигнул мне, когда он заплакал.
Это была фаза в разговоре, когда я перешла к темам, практически у нас запрещенным: нельзя давить на суицидента, используя его чувства к детям. Но я вконец обессилела и готова была сползти на пол. Я ненавидела его и боялась за него до ужаса. И спросила:
– А сыновья – который на тебя похож?
Он умолк, будто кто внезапно сдавил ему горло. Потом шумно сглотнул и сказал:
– На меня-то похож старший. Хороший парнишка. Самостоятельный такой, спокойный… Но младший у меня, трехлетний – ох, это огонь! В Таню с головы до ног. Все ему нужно, до всего есть дело… и такой философ!.. На днях говорит: «Бесполезная моя жизнь. Я ничего не умею. Не умею даже играть на скрипке…»
Ознакомительная версия.