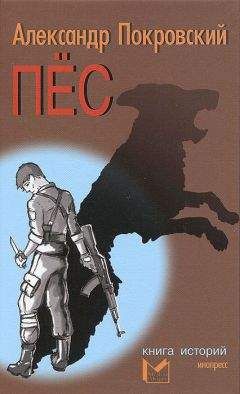Все нам стало ясно.
Через полчаса Петров уже был в трюме.
Город С. – это наш секретнейший город, в котором или строят подводные лодки, или их ремонтируют. И это настоящий город с троллейбусами, автобусами, такси, светофорами, женщинами.
И женщин здесь великое множество.
А когда женщин великое множество, то до боевой подготовки ли тут?
Нет! Не до боевой подготовки, и потому после построения на подъем военно-морского флага все сразу куда-то деваются до следующего построения на следующий день.
И возврата к прошлому нет.
Нет возврата к суровым будням ратного труда.
Нет этого труда, а вместе с ним и будней.
Вообще ничего нет, есть только рай, да и только.
Вот почему вновь назначенные на экипаж командиры сейчас же начинают бороться с этим явлением.
А как они борются?
Они устраивают построения – в 8.00, в 12.30, в 15.00, в 18.00 и в 21 час.
Пришел на экипаж новый командир, и стал он бороться. И боролся он целую неделю.
А в воскресенье? А в воскресенье можно уже не бороться и подольше полежать в постели с женой. Командир так и сделал. В воскресенье он лежал в постели.
А потом в дверь позвонили. В восемь утра.
Он очумело посмотрел на часы – точно, восемь – и пошел открывать.
За дверью стоял какой-то мелкий мужик.
– Свиридов здесь живет? – спросил мужик.
– Здесь, – ответил ему командир.
– Тогда мы к вам, – сказал мужик и внес в квартиру гроб, стоящий за дверью у стеночки.
– Принимай! – заявил изумленному командиру мужик.
– Что принимать? – не понял командир.
– Товар! Гроб!
– Какой гроб?
– Сосновый! Как заказывали!
– Тут какая-то ошибка, товарищ!
– Какая ошибка? А заказ? А наряд? Ты Свиридов?
– Ну?
– Что «ну»? Деньги давай! Еще сорок рублей!
Надо заметить, что в те времена сорок рублей были большими деньгами. С ними до Магадана можно было доехать.
– Всего восемьдесят, так? – не унимался мужик.
– Ну, допустим, так, а я-то здесь при чем?
– Сорок за тебя ребята заплатили, остальное – ты!
– Какие ребята?
– Вася! – крикнул мужик за дверь, – тут платить не хотят!
– Кто? Где? – послышалось с лестницы, а потом там раздались шаги. От них сотрясался весь дом. Когда Вася зашел в прихожую, заполнив ее под потолок, стало ясно, что деньги придется отдать.
Причем все.
– Да ты смотри, какой товар! – никак не унимался мужик. – Дерево, не хухры-мухры! А запах? Смолой же пахнет! Ему там хорошо будет! Год пролежит чистенький! Доски! Ни одного же сучка! Материя! Чистый шелк! А бантик?
Получив деньги, мужик успокоился, сделал себе скорбное лицо и, выходя, пропел:
– Пусть в вашем доме это будет последнее горе!
Жена от всех этих разговоров все-таки проснулась.
– Кто там? – спросила она, потягиваясь.
– Гроб! – сказал командир.
– Что? – сказала она.
– Гроб!
В этот момент в дверь позвонили. За дверью стоят тип в черном пиджаке. У него был очень прилизанный вид.
– Вы Свиридов? – спросил тип очень вкрадчиво.
– Мы! – сказал командир, и ему внесли в дом венки.
– Обратите внимание! – заговорил при этом тот, в пиджаке. – Надписи на лентах: «От друзей и просто так, знакомых», «От скорбящих неуемно женщин», «От родных и любящих ни за что» и «Я ушел от тебя, непрестанно рыдая».
– Может быть, «неприлично рыдая»? – усомнился командир.
– «Неприлично»? Сейчас проверим! – тип достал какие-то бумажки, порылся в них, нашел нужное и сказал: – Нет, все так! Проверили остальные?
– Проверили, – немедленно кивнул командир.
– Тогда с вас еще двадцать рублей.
После ухода того, в пиджаке, какое-то время было тихо.
– Что это, Саша? – спросила жена.
– Это? – задумчиво протянул командир.
Ответить ему не дали. В дверь позвонили. За дверью была целая команда.
– Оркестр когда подавать?
– Оркестр?
– С катафалком!
– С катафалком?
– Ну да! Кстати, надо утвердить репертуар. «Прощайте, скалистые горы» сказали обязательно надо.
– Хорошо!
– И «Варяга»!
– И «Варяга».
– Тело сами обмывать будете?
– Тело?
После оркестра, катафалка и обмывалыциц с плакальщицами наступило относительное затишье.
– Надо гроб вынести на лестницу, – осенило вдруг командира. – Может, кто-нибудь его там украдет! – Вид у него был самый безумный, отчего жена сейчас же кивнула и начала бестолково метаться по квартире.
Через пять минут после того как он вынес гроб, в дверь позвонили.
За дверью мялся какой-то субъект.
– Там ваш гробик… – откашлялся он.
– Ну?
– Гробик, говорю, ваш…
– Ну?
– Его могут скоро украсть…
– Ну?
– А гробик-то хороший…
– Ну?
– Вещь, одним словом…
– Ну?
– Это я насчет помощи от соседей…
После этого командир сказал жене почему-то шепотом:
– Надо его на улицу отнести. Тут его никогда не украдут. Тут его, похоже, охраняют. Все стерегут!
И он вынес гроб на улицу.
Через мгновение в дверь позвонили. За дверью стояла решительная старуха.
– Там на улице ваш гроб! – сказала старуха.
– Да!
– Его скоро украдут. Сопрут!
– Да!
– В дом надо занести. Гроб – вещь, а этот очень хороший, крепкий. Сто лет пролежит.
И тут командира осенило.
– Бабушка! – вскричал он. – А может, я вам его подарю! А? Воспользуетесь при случае!
– Ирод! – взвизгнув, пошла на него старуха. – Я, может, дольше тебя проживу!
Он еле успел захлопнуть перед ней дверь.
К исходу дня гроб так и не сперли.
Командир сам оттащил его на пустырь, с грохотом волоча по асфальту.
Там он целый час рубил его топором.
С грудным хряканьем.
Ах, Россия, Россия!
Все вокруг тебя кружится, кипит, тянет в сторону, образует и смерчи погибельные, и опасные водовороты, куда затаскивает, крушит, переламывает, перекручивает, перекореживает, перемешивает, перерождает, а потом выносит на поверхность свежими волнами.
Вокруг тебя идут великие преобразования мира, и что-то обязательно происходит, случается.
А в тебе, за исключением нескольких городов, жизнь течет размеренно и сонно.
Так и кажется, что из-за поворота дороги, утопая колесами в теплой пыли, появится красивая рессорная небольшая бричка, в которой по российским дорогам ездят одни только холостяки, а при приближении можно будет рассмотреть и лицо ее пассажира – холеное лицо Павла Ивановича Чичикова, помещика по своим надобностям.
И отправится он снова собирать свои бессмертные мертвые души, чтоб затем с немалою выгодой перепродать их любимому государству.
А у самого леса на дорогу может выехать Илья Муромец с Добрыней Никитичем и с Алешей Поповичем и, приложив руку ко лбу, станут они высматривать воинство поганое, чтобы учинить с ним битву раздольную.
Ох и битва та, ох и битва! Пойдет битва та – не удержитесь. Свист стрел, скрежет, звон мечей да рычанье людей, и лошади падают, топчутся, мечутся по полю, и несутся они вскачь, потеряв седоков.
А молодцы все сражаются, И рукой они махнут – ляжет улочка, а другой рукой – переулочек.
А в самом том лесу тишина, глухота, а на старом дубу Соловей сидит, Соловей сидит, на тебя глядит.
Или бабушка-карга из чащобы выскочит, сверкнет глазом и опять нырнет, уйдет в чащобу, и только сердце твое заполошится.
А потом не дай тебе бог встретить самого Ивана-царевича, потому что не в духе он, рыщет-свищет-мается.
То ли смысл своей жизни ищет, то ли от жизни постылой спасается.
То ли оправданием дел своих занят.
В эти минуты не следует ему на глаза попадаться с тем, что ты знаешь, где зарыт меч-кладенец.
«Уйди, бабуля! – скажет он, даже если ты совсем не бабуля. – Зашибу!»
И зашибет.
Пополам переедет и на косточках твоих покатается, потому как в печали великой пребывает наш благодетель.
Это ж сколько на него всего понадвинулось!
Тут успей, туда долети, здесь доделай, а там и воеводы опять лихоимствуют и режут без ножа простой народ, о котором единственном и печалится сокол наш ясный.
А вот и песня нас отвлечет. Тихо льется она над родимой степью, и не видно певца в ней, не разобрать и слов, но так сладко, так томительно сладко пение то, такое редкое в нем различимо разноголосье, будто не один там певец, а много их, будто все мы, как один человек, как один человек… но полноте, полноте, слов-то нет, и одни только раны, и так больно все сжалось, что и слезы уже на глазах, а в мыслях только она – Россия!
От удара головой об угол стола у Ильи Ивановича откололся кусочек детства.
Отскочил и улетел куда-то в кусты.
Точнее сказать, он ударом был извлечен из того сегмента памяти, где совсем еще маленький Илья шел на нетвердых ножках, направляясь на мамин зов «Тю-тю-тю!».
Вот его движение в том направлении еще сохранилось, а потом – все, темнота.
Вот что было потом? Потом же что-то было. И он точно помнил – да, вот оно.
Илья Иванович неделю ходил сам не свой. Автономка, последние сутки похода, скоро домой, а у него – нет, отскочило, причем во сне, – и сразу в кусты.