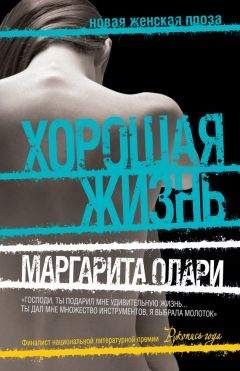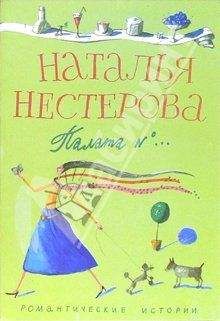После смерти матери Валюша покидает монастырь. Игуменья зовет ее назад, обещая постриг. Валя возвращается, принимает постриг, не может остаться, вновь уходит. Принимает решение жить инокиней в миру, меняет несколько мест работы, устраивается воспитательницей в детский дом. Там она работает до сих пор. Если бы у меня была возможность поговорить с ней, я спросила бы, каким она представляла будущее пятнадцать лет назад, когда восторженными детьми мы по шесть часов стояли на службе, вдыхая запах ладана, воска и свободы.
Вопреки сопротивлению моих друзей, Даша живет со мной полгода. Мне нужны полгода с Дашей. Она родилась в Норильске, училась в Питере, приехала покорять Москву, полагаясь на мою помощь. Вряд ли она решилась бы на переезд сама. Даша нуждается в материальной поддержке, отлаженных каналах коммуникации, моей твердой вере, что Москва покорится. Москва не покорилась, смирилась. Даше не достается даже малая часть денег или возможностей, которыми я обладала раньше. Страх не состояться в плане карьеры и огорчить родителей, всю жизнь вкалывающих ради достойной пенсии, заставляет Дашу цепенеть. Для меня ее страх фантомная боль. Мои тезисы о необходимости выпасть из социальной матрицы фантом для Даши. Я не люблю ее и не уважаю, но кто-то должен варить мне кашу утром, убирать по выходным квартиру, ходить в магазин, создавать иллюзию семьи. Хочется заботиться о ком-то, нужен стимул, секс, хочется обнимать кого-нибудь засыпая. Прежние отношения распались, не могу перестроиться. Мне нужна медсестра, няня или домработница.
У нас не получается разговаривать, мы занимаемся сексом долго и упорно. Ненавижу секс, наступило пресыщение сексом. Ни внушительных размеров грудь, ни длинные ноги, ни отсутствие у Даши внятных мыслей уже не стимулируют меня. Завтракаю с ней, убираю квартиру, хожу в магазин, обнимаю ее, запрещаю себе мечтать о другой жизни. Друзья пилят, просят очнуться, раскрывают страшные тайны, Рита, Даша обманывает тебя. Но меня не возмущает ее глупая ложь, не трогают проступки. Она никогда не приобретет масштабность в злодеяниях. Понятно, зачем я живу так, пусть понимание рождает печаль. Если бы не Вера, в печальном понимании своего положения можно было протянуть еще очень долго. Даша скажет о ней несущественную глупость. В предчувствии перемен несущественная глупость приобретает значение катастрофы, к которой Даша не готова. Скандал происходит ночью, обреченно звоню Вере выдохнуть, как же плохо, человек идиот, и спать с ним не ляжешь ведь. Той ночью Вера увозит меня к себе. В ее квартире наверняка случится то, чего я хочу. Мы с Верой сидим в четыре утра на кухне, беседуем нарочито серьезно, с театральными паузами, пьем чай. Вера, на какой диван лечь.
В родительском доме стоит огромный, старый сервант. Чтобы открыть сервант, приходится вставать на стул, мне пять лет. В серванте чайный сервиз, в сахарнице золотые украшения, в сосуде для сливок мама прячет купюры, а в одной из чашек, прикрытой блюдцем, хранится мелочь. Иногда сервант пустеет, сервиз исчезает, я думаю над тем, куда его прячут родители. Сервиз в свое время приобрела моя бабушка, для нее он предмет особой гордости. Считается, сервиз старинный, о чем бабуся при случае всегда говорит. Когда отец с матерью поженились, бабуся, стиснув зубы, подарила сервиз им на свадьбу. Но если отец ссорится с бабусей, она приходит к нам, Вова, я забираю сервиз. И забирает. Если отец просит у нее прощения или помогает по хозяйству, бабуся с видом страдалицы приносит сервиз обратно, ставит в сервант. Поведение лисы и журавля длится долго, пока отец не уезжает из дома, в котором я выросла. За то, что папа уехал, бабуся вновь забрала сервиз. В последние годы ее жизни мы с отцом не видим сервиза, не спрашиваем о нем. Она лежит в больнице, мы не спрашиваем. После ее смерти разбираем вещи, выбрасываем ненужные, откладываем нужные, на веранде, в оцинкованном ведре, завернутый в газеты пятилетней давности лежит чайный сервиз. Папа, всплеснув руками, кричит, и ради чего мы с ней всю жизнь ссорились. Он бережно относит ведро в машину, с тех пор сервиз стоит у него в серванте. Приезжаю в Кишинев на похороны отца, дочь папиной сестры вручает мне чашку со словами, видишь, из того самого сервиза. Разглядываю чашку, первый раз в жизни держу в руках, цветочки на чашке всего лишь наклейки, на дне жестоко, не для романтиков, просто и ясно написано «ГДР 1973 год». Сестра аккуратно завернула чашку в газету, когда выйдешь замуж, подарю тебе на свадьбу, это же история нашей семьи. Я молчу, в конце концов, если сервизу не удалось стать историей вообще, ему удалось стать историей именно нашей семьи.
Лена, мы с Верой расстались. Рита, ты ведь не дура, но у тебя тогда не сложилось, и тогда не сложилось. С плохими не сложилось, и с хорошими не сложилось. И даже с очень хорошими у тебя тоже не сложилось. Может, дело не в них, а в тебе. Родители разводятся, меня отдают матери, мне одиннадцать лет. Отец женится второй раз, так в моей жизни появляется мачеха, год спустя брат. Папа счастлив, я не очень, но с мачехой и братом нужно считаться. Встречи с отцом проходят по субботам и воскресеньям. Мачеха мешает мне, я мешаю ей, отца раздражают наши отношения. Спустя десять лет мачеха забирает сына, едет к родственникам в Израиль, отец получает письмо, в котором она просит развод, шантажирует, угрожает, он больше не увидит сына. Отец подает на развод. Вряд ли папа был волевым, но он мог твердо сказать «да» или «нет», а это означало, другие варианты отсутствуют. Он будет ждать восемь лет, и не увидит сына. За восемь лет попытается сойтись со многими женщинами. Две трети этих женщин я лично выгоню из дома. Отцу плохо, ему нужна медсестра, няня, домработница. Он не может один. Папа умирает тихо, не дожив двух месяцев до пятидесяти четырех, не дождавшись меня, не увидев сына. Родственники по отцовской линии устроят на его похоронах истерику. Мне тоже казалось, что смерть отца станет для меня потрясением. Не стала. Не могу смотреть на него мертвого, рвать на себе волосы от горя, выдавить слезы. Не похожа на скорбящего человека, потому что не скорблю. Жила рядом с отцом, никогда не сравнивала то, что делает он, с тем, что делаю я. Оба мы делали одно и то же, не потому что одной крови, потому что такова природа человека вообще. Пресловутая любовь, пресловутый покой, пресловутая семья. Чайный сервиз и надпись «ГДР 1973 год».
Лето жаркое, время ветреное, мысли легкие, Вера часто говорила, ты относишься ко мне по-отечески. И когда теперь я вспоминаю слова Веры, удивляюсь им, не нахожу их прикладными даже к прошлому, «по-отечески» остается единственным ужасающе откровенным. В сорок шесть лет отдаться тому, что вне возраста и опыта. Папе исполнилось пятьдесят, он безнадежно влюбился, сидит на кухне, смотрит в окно, плачет. Мы утешаем его, папа, тебе уже пятьдесят, ты не можешь вести себя как мальчишка, ты взрослый мужчина, посмотри на себя. Папа посмотрел на меня, поверь, тебе исполнится тридцать, а ты будешь чувствовать то, что чувствовала в двадцать. И в сорок ты тоже будешь чувствовать то, что чувствовала в двадцать. В пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, ты все равно будешь чувствовать то, что чувствовала в двадцать. Поизносишься, постареешь, но внутри мало что изменится.
На стадии предварительных переговоров, предшествовавших интимной близости, выяснилось, Вера не знает, как вести себя с женщиной, и все же она была хороша в постели. Я волокла с собой из прошлого нереализованные сексуальные фантазии, некому их предложить, с каждым любовь, все приличные люди. Может быть, думали мы в этом плане одинаково, но никто не озвучивал свои желания, поворачивали друг друга, пользовались игрушками, ускоряли или замедляли темп, а дальше кирпич. Потому что любовь и все приличные люди. Странная условность, мы ведь и так невесть что творили, но и у этого «невесть что» свои границы, свои пределы. Выйти за них означало впасть в крайнюю степень распутства. Близость с Верой лишена условности. Хоть мне не удалось ее повернуть, из-за страха кантовать, хоть мы не обзавелись игрушками, я чувствовала себя счастливой. На мои детские вопросы, когда мы повяжем мне глаза ленточкой, Вера отвечала, милая, пойми, этот вариант себя еще не исчерпал. Простой вариант шелкового насилия и неумолимого удовольствия. Да, не исчерпал. Несмотря на то что мои фантазии не стали реальностью, мы обе самозабвенно мастурбировали. Впервые во время секса я не вспоминала сцены из порнофильмов, Вера была удивительно хороша.
Глядя на нее, я думала, сколько человек лежало в ее постели до меня. Как они касались ее, гладили, целовали. Кто обнаружил семь морщин во впадине между шеей и грудью. Кто говорил, что у нее красивая грудь, кто просил ее поднять халат за тем, чтобы она показала ноги. Кто видел ее стеснение и уверенность. Кто эти люди. Кто эти скоты, кто они, бездарные потребители. Мерзкие козлы, пустые банки, испорченные телефоны, оставленные дегенераты, холодные толчки, безыдейные градусники, стоящие часы, моральные инвалиды, евнухи, шизофреники, импотенты, теннисные ракетки, пробитые стекла, грязная вода, черные дыры, латентные педерасты. Кто все эти люди.