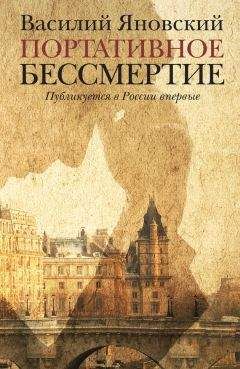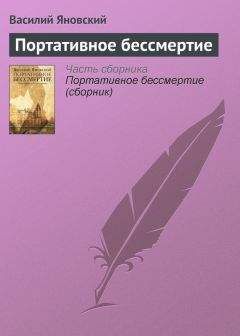В этом городе все происходит под постоянный аккомпанемент дождя, и от обилия струящейся воды городской пейзаж приобретает размытые, нереальные очертания. Нескончаемые водные потоки в романе Яновского перекликаются с сюрреалистической образностью (у сюрреалистов вода выступала метафорой подсознания), а такие фразы, как «время капало над головами», отсылают к сюрреалистической концепции жидкого времени (можно вспомнить не только литературные примеры, но и визуальные, например, серию картин Сальвадора Дали «Мягкие часы»). Однако у Яновского подобные акваметафоры навевают не грезы или мистические «воспоминания» о пренатальном состоянии, а еще большую тоску и депрессию через прямые ассоциации со смертью и разложением. Вода в «Портативном бессмертии» стекает «с вешним шумом» в подземной уборной, течет из кранов в моргах («В темных подвалах медицинского факультета… шумит проточная вода. Там под кранами хранятся трупы; в глубоких ваннах плавают мертвецы»). В романе воспроизведена серия жутковатых снов в духе сюрреалистических видений, в одном из которых мир предстает в искаженном виде, как бы сквозь плотное стекло аквариума.
Не только настоящее французской столицы, но и ее революционное прошлое, которым и до сих пор гордятся французы, не вызывает у героя Яновского, пережившего социальный переворот в его русском варианте, ничего, кроме содрогания:
«Над северо-востоком Парижа стоит зарево. (Горят доки, арсенал, быть может, рушится Бастилия…) Жмурюсь, затыкаю уши. Убивали, жгли, рубили, взрывали, предавали; с живых драли шкуру и салом мазали свои раны, шилом кололи глаза племенных жеребцов и пускали их под лед; сносили церкви, взрывали музеи, жгли книги, цветы, кружева, гобелены перекраивали в попоны, сапожищами топтали фарфор, детей; пилою отделяли туловища врагов, отрезали груди, вспарывали животы, грабили».
Картина этого «бессмысленного и беспощадного» бунта написана столь эмоционально и темпераментно, как будто речь здесь идет о недавней русской революции, а не о ее французском прототипе. Эти ассоциации усиливает упоминание о сапожищах, топчущих фарфор, отсылающее к рассказу Георгия Иванова «Фарфор» (1933), в котором рассказывается о разорении большевиками петербургских особняков («…весь пол комнаты покрыт исковерканным, растоптанным фарфором. Пастушки и маркизы, чашки и вазы, попугаи и китайские мандарины лежали на этом полу, как расстрелянные в братской могиле»).
К Георгию Иванову Яновский обращается чаще, чем к другим писателям парижской диаспоры, о чем свидетельствует целая сеть непрямых цитат. Важное значение для эмигрантской литературы имел «Распад атома» (1938), жанр которого сам Иванов определял как поэму с религиозным содержанием. Своим откровенно некрофильским эпизодом, нигилистическим тоном и описанием извращений «Распад атома» шокировал консервативные круги русского Парижа и был встречен недоуменным молчанием (исключение составил лишь посвященный «Распаду атома» вечер литературного общества «Зеленая лампа», на котором Зинаида Гиппиус произнесла доклад «Черты любви»). Однако писателями-монпарнасцами этот текст, написанный в духе «человеческого документа» и более близкий произведениям Генри Миллера или Жоржа Батая, чем дореволюционному канону русской литературы, с которым обычно ассоциировали Г. Иванова, был принят с энтузиазмом. Они и сами разрабатывали темы метафизической катастрофы, пошлости человеческого существования, невозможности искусства, смерти поэзии и творческого бесплодия. Состоящий из разрозненных прозаических фрагментов, скрепленных личностью рассказчика и рядом лейтмотивов, «Распад атома» пронизан цитатами из лирической поэзии, нередко намеренно неточными, что усиливало мотив потери в изгнании поэтической памяти и чувства языка. Слабый протест героя направлен против Пушкина как символа русской культуры и вообще всей России до «катастрофы», рефреном становятся слова: «Пушкинская Россия, зачем ты нас обманула, пушкинская Россия, зачем ты нас предала?» Но это не столько упрек, сколько констатация невозможности в современном мире пушкинской гармонии – она оказалась иллюзией, классическая культура исчезла безвозвратно.
Именно ивановскому герою вторит повествователь Яновского:...
«О, Пушкин, не оставляй меня. Ты оплешивеешь. Ты так прекрасен и юн. У тебя мягкие кудри и горячие губы. Пушкин, ты умрешь. Пушкин, я слепну. Прижмись ко мне, ненаглядный. Если сжалится Бог, глаза никогда не выцветут, волосы не побелеют. Пушкин, ты умираешь. Пушкин уже…»
Скорее всего, текстом Иванова навеяна и атомно-молекулярная образность романа «Портативное бессмертие». У Иванова атомом называет себя сам рассказчик, планируемое им самоубийство представляется ему как процесс расщепления атома: «Точка, атом, сквозь душу которого пролетают миллионы вольт. Сейчас они ее расщепят. Сейчас неподвижное бессилие разрешится страшной взрывчатой силой».
Самоубийство отдельного человека проецируется и на уничтожение всего мира:
...
«Уже заколебалась земля. Уже что-то скрипнуло в сваях Эйфелевой башни…Океан топит корабли. Поезда летят под откос. Все рвется, ползет, рассыпается в прах – Париж, улица, время, твой образ, моя любовь».
У Яновского мир предстает как «загрязненная комбинация разных благодатных частей, молекула», а возможный апокалипсис видится как космическая коллизия: «А то: в разгаре гульбы и поножовщины, жидкий атомный хвост случайной кометы стегнет тебя по щекам – сметет все…»
Писатели тридцатых годов часто прибегали к научным терминам и образам, заимствованным из физики и химии. В годы после Первой мировой войны наука и промышленность развивались ускоренными темпами, а последние научные открытия быстро популяризировались. Теории строения атома и радиоактивности завладели умами настолько, что стали модной темой в кино и литературе. Бардамю, герой романа Селина «Путешествие на край ночи» (такой же маргинал, как и герои многих «человеческих документов» русских писателей), размышляет о стремлении молекул к распаду, что, по его мнению, дублирует и всеобщую мировую тенденцию к саморазрушению. Рассказчик романа Генри Миллера «Тропик рака» пользуется языком физики, говоря о разрушительной силе психической энергии: «Если кто-нибудь осмелится передать все, что накопилось на сердце, изложить свой реальный опыт, свою подлинную правду, тогда, я думаю, мир взорвется, его разнесет на части, и ни Бог, ни случай, ни воля никогда не смогут вновь собрать все частицы, все атомы, те неделимые элементы, из которых мир был когда-то создан».
Грядущее предстает в романе «Портативное бессмертие» в не менее мрачных тонах. Эпиграфом ко второй части, иронично озаглавленной «Улица Будущего» (так называется улица убогого предместья, где живет герой), служит строка из знаменитого монолога Гамлета «О, бедный Йорик», обращенного к черепу покойного придворного шута. С отвращением рассматривая жалкие останки некогда обожаемого им весельчака, Гамлет предается философской медитации о неизбежности смерти, в то же время испытывая прилив тошноты от ее конкретных физических проявлений: «Это был человек бесконечного остроумия, неистощимый на выдумки. Он тысячу раз таскал меня на спине. А теперь это само отвращение и тошнотой подступает к горлу. Здесь должны были двигаться губы, которые я целовал не знаю сколько раз…» Если учесть, что в трагедии разговор между Гамлетом и гробовщиком, непосредственно предшествующий монологу, состоит в обсуждении скорости разложения трупов, то можно предположить, что этой ссылкой на Шекспира Яновский попытался уре-зонить своих критиков, неизбежно осуждавших его за гротескные описания разлагающейся плоти.
Таким образом, в «Портативном бессмертии» Яновский пытается совместить привычные для писателей русского Монпарнаса физиологическую лексику и апокалиптическую тональность с научной терминологией и рассуждениями о том, как с помощью определенных механизмов можно изменить человеческую природу. В результате чего роман приобретает не свойственные текстам «незамеченного поколения» черты утопии и даже научной фантастики. Впрочем, при ближайшем рассмотрении этот роман, построенный из разрозненных фрагментов по принципу весьма произвольных ассоциаций, вообще не подходит ни под какие жанровые классификации: на дневниково-исповедальный дискурс в духе эгодокументов тридцатых годов и с изрядной примесью физиологических описаний наслаиваются жанры утопии и антиутопии, философские размышления, экзальтированные религиозные откровения повествователя, который одновременно соединяет в себе две инстанции – героя и автора. По своей экспериментальной форме «Портативное бессмертие», возможно, более созвучно современному моменту, когда представления о чистоте жанров окончательно отошли в прошлое и всё чаще появляются тексты, занимающие срединное пространство между художественной литературой и нон-фикшн.
Несмотря на некоторую наивность, фантастический пласт «Портативного бессмертия» оказался симптоматичным для американского периода творчества Яновского. Почти все основные произведения, созданные им с середины сороковых годов, содержат элементы магического реализма и повествуют о неком параллельном существовании. Писатель вновь и вновь возвращается к ряду волнующих его вопросов, превращая их в сквозные мотивы своего творчества. В чем состоит подлинная реальность? Как постичь невидимый мир?