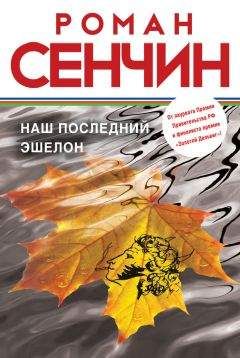Ознакомительная версия.
Какой-то хрусталь, столовое серебро, плевательницы… У Алены блестят глаза, ей, наверное, представляется, как бы эти поделки украсили ее убогий сервант… Зал Отечественной войны двенадцатого года.
– Кто это на белом коне на той картине?
– Кутузов скорей всего.
Приблизились. Оказалось – Александр Первый.
Ходим, ходим, рассматриваем. Алена пустилась в рассуждения о живописи. Да, у нее, кажется, хватает времени и сил читать о художниках и их творениях. Библиотекарь все ж таки… Даже термины какие-то запомнила.
– Хотелось бы посмотреть картины Босха. Жаль, что у нас их нет, а репродукции совсем не то.
– Да, – соглашаюсь.
В залах импрессионистов Алена не нашла ничего более подходящего, чем спросить:
– Что ты сейчас читаешь?
– М-м… – Я не соврал: – Ничего.
В прошлый раз мы много говорили о литературе. Тогда как раз появилась вся эта «неизвестная классика», и я был увлечен ею. Искал деньги, бегал по магазинам, поглощал книги одну за другой. А потом мне стало понятно. Да это просто старые желчные уроды! Они измазались жизнью, пережили себя как людей и сели писать. Кучка тридцатипятилетних мужчин с опавшими членами. Они нюхали свои подмышки и описывали свои ощущения. У всех у них первые вещи еще занимают, я видел там близкое, я удивлялся. А второе, третье, десятое… Станок для зарабатывания денег. Они сделали из этого бизнес. В итоге сдохли от сытой, спокойной старости в окружении любовников и любовниц. Обеспечили свое будущее, вопя, что будущего нет… И теперь я ничего не читаю.
– Тебе нравится Гоген?
– Так… Тоже слишком долго…
– Почему тоже? И долго?
– Нет, это я о своем. Просто думал.
Художников можно простить. Они шли медленно и осторожно. Все время искали. Писаки же находили струю, строчили и собирали башли.
Мы бредем из зала в зал. Алена читает фамилии мастеров, названия картин, подолгу задерживается у какого-нибудь полотна, рассматривает издалека, вблизи, отходит влево, вправо. Строит из себя настоящего ценителя и знатока. Мне же из всего увиденного запомнились три-четыре картины, это у французов, современников импрессионистов, но представителей классической манеры. Они классно рисовали голых женщин, так возбуждающе, что мне аж стало трудно ходить. Особенно картина «Продажа невольницы». Помост, продавец, внизу толпа римлян, они тоже возбуждены, они кричат, повышают цену, чуть не дерутся из-за молоденькой пухленькой рабыни, которая откровенно выставила им свои прелести. Были бы у меня деньги, и я б не пропустил свой кайф. А больше в искусстве я просто ни во что не въезжаю. Мне непонятны какие-то там полутона, линии, мифические сценки; мне доступно только простейшее. Вот «Деревенский праздник», тоже неплохая вещица. Один блюет, другой мочится на стену, третий так реалистично залез бабище под юбку… Прикольно.
– Что, пора на автобус, – с сожалением вздыхает Алена. – Половина первого.
– Поедем?
– Ты не против?
– Да нет, нет.
Мы поспели вовремя, но еще минут пятнадцать сидели в салоне, так как экскурсоводы никак не могли собрать минимального количества пассажиров. Они, надрываясь, расхваливали в мегафоны сказочной красоты Петергофский дворец, зимнюю задумчивость парка, и какая-то парочка наконец клюнула; мы поехали.
Хотелось пить, я жалел, что не развел Алену на баночку «Фанты», а путь предстоял довольно долгий. Пришлось терпеть. Алена молчала, смотрела в окно, я же скрючился на сиденье, закрыл глаза, ползал языком по осколкам сгнивших зубов, размышлял, как бы получше провести вечер. Сегодня суббота, вход почти во все клубы дороже, чем по будням. В мой любимый «Планетарий» – шестьдесят. А еще там надо чего-нибудь выпить, хорошо бы плана съездить купить, на это тоже сколько денег надо… Проблем достаточно.
Экскурсовод заученно рассказывает нам об истории создания Петродворца, о парке и фонтанном комплексе, об уникальной реставрационной работе, проведенной после Великой Отечественной. По ходу обращает наше внимание на то или иное здание, мост, объясняет, почему Фонтанка названа Фонтанкой, и прочее. Пусть говорит, лишь бы Алена молчала, ведь мне придется что-нибудь отвечать, а ни сил, ни желания нет.
История… Зачем в ней ковыряются, разгребают пепел прошлого, сдувают пыль с никому не нужных событий? Понятно, что есть определенное количество ненормальных, для которых история – это их жизнь. То есть они живут историей, они плавают в ней, как рыбы в воде, и радуются, что их не тянет выброситься на сушу. «Да что здесь интересного? Что может быть стоящего в сегодняшнем? Вот Месопотамия третьего тысячелетия до нашей эры – это здорово, стоит положить на ее изучение жизнь!..» Есть еще другие, они проводят всевозможные параллели, анализируют, объясняют: «Ничего страшного нет, вот три с половиной века назад происходило нечто подобное, еще хуже, и Родина наша благополучно преодолела это и, значит, преодолеет и теперь…» Да ничему она никого не учит, эта история, нет у нее ни линейности, ни цикличности, ни чего другого. Сел царь и давай экспериментировать – вот тебе и новый этап. А стадо засучило рукава, принялось строить или разрушать, воевать или дружить, голодать или обжираться, пить или заниматься физкультурой.
История – цепь занятно-кровавых баек, которые время от времени можно почитать по обкурке, перед тем как срубишься.
Сейчас ею, кажется, пропитано все вокруг. Книжки всякие исторические горой на прилавках, церкви трезвонят на каждом углу, по телику только и твердят, что Россия – великая держава, у нее великая история, великое предназначение, у нее свой великий путь. Чем сильнее мы увязаем в дерьме, тем громче орем об истории, тем яростнее дергаем за веревки колоколов. А я так считаю: всегда Россия валялась пьяной в углу и просила пожрать и еще долбануть водяры. Всякие немцы, шведы, англичане, французы совали ей то, что просила, и снимали взамен с нее шапку, сапоги, полушубок. Иногда Россия эта поднималась, била кого-нибудь в морду, отбирала одежонку обратно и снова валилась в угол, пила и просила пойла еще… Все здесь делали иностранцы, но нашими трясущимися с похмелья руками.
* * *
Погода резко изменилась. Снег перестал, ветер почти утих. Уродливые рваные тучи лишь ненадолго закрывали солнце. Потеплело, все стало разноцветным.
– Красиво как! – воскликнула Алена, выходя из автобуса. Она жмурилась, глубоко вдыхала чистый воздух, улыбалась.
– Давай зайдем в кафе, – предложил я, – пить очень хочется.
– Конечно, конечно.
Мы выпили чаю и съели по пирожку с капустой.
– Во сколько сказали вернуться к автобусу?
– К четырем. Больше часа можем гулять.
Я вздохнул:
– Хорошо.
Пора раскуриться. Без поддержки прогулку перенести будет ой как трудно. Нужно ходить по заснеженным дорожкам, любоваться искусно подстриженными деревьями, одинокой скульптурой дерущихся Самсона и льва, почему-то не накрытой деревянным зеленым ящиком, как остальные; дворцом, который отсюда, из парка, кажется еще более массивным и в то же время будто готовым взлететь.
– Красота, красота! – вымученно восхищается Алена. – Правда ведь?
А я ненавижу красоту. Красота – это ложь. Людям свойственно убожество и безобразие, и поэтому они стремятся создать красоту, а потом восхищаются ею. Их питает красота, как меня гашиш… Но любая красота – от природной до какой-нибудь красоты души – обязательно перерождается в безобразие. Обязательно. Сколько передохло людей, пока строили сей великолепный дворец? Вот бы раскинулось рядом с ним кладбище упавших, надорвавшихся, задавленных, забитых, тогда бы задумались многие – восхищаться или снять шапку. Архитектор такой-то, эпоха такого-то. А про мурашей никто и не вспоминает. Сойдите с центральной улицы, нырните под арку, и вы увидите эти кровавые стены, красные стены, они, как куски сырого мяса, вечно сырого, гниющего мяса. Вот она, изнанка дворцов, изнанка красоты, изнанка вашего тупого, плотоядного восхищения…
– Пойдем к заливу, – предложила Алена.
– Как хочешь.
Парк почти пуст. Лишь изредка попадаются гуляющие, такие же тихие, блеклые, как и мы. Тени, все похожи на тени. Размытые, тусклые тени, по ним можно ходить, но тени не чувствуют, они еле слышно и очень жалобно шепчут: «Помогите… ради сироток… все-все сгорело… проверьте документы… помогите…» Они молят, крестят другие тени, кланяются им, желают здоровья. Все ради копеечки. Нужно много усилий, чтобы поверить, что это люди, и что я человек, и вот это пятно, и это – тоже. В словах «человек – звучит гордо» мне слышится издевательство сказавшего над всеми, и в первую очередь над самим собой, и после этих слов он обязательно должен плюнуть себе в лицо.
Притворяются, все кругом притворяются, сдерживают жгучее желание встать на четвереньки… Да и встают, некоторые уже встают.
– Чудесно как! – не может успокоиться Алена и даже подрагивает от величия этой чудесности или просто начинает замерзать.
Ознакомительная версия.