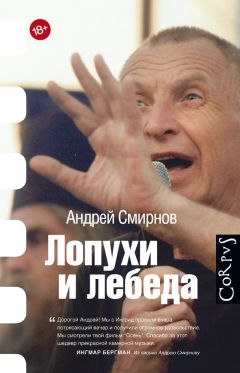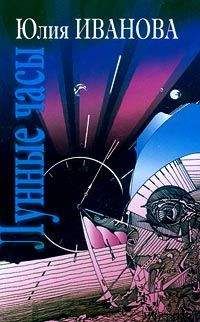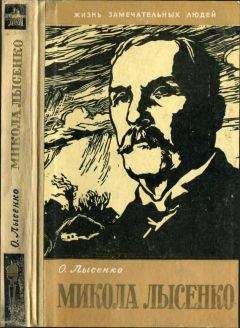Ознакомительная версия.
Мы познакомились в спортзале. Он учился на заочном операторском факультете ВГИКа и играл за институтскую баскетбольную команду на первенство московских вузов. Виделись мы на тренировке или на игре в Лужниках, а после игры – в пивной по соседству. Когда я предложил ему снимать “Ангела”, за плечами у него была вгиковская ученическая короткометражка, как оператор был он совсем зеленый. Он охотно согласился. Я предупредил, что снимать придется без осветительных приборов. Пашка с легкостью необыкновенной, несколько меланхолически отвечал фразой, которая со временем станет в кино легендарной: “Да, б…, хоть без пленки!..” Конечно, бранное междометие можно опустить без ущерба для содержания, но, согласитесь, оно придает высказыванию живости, а значит – красоты.
Сегодня это звучит пророчеством. Во всем мире изображение стало цифровым, и пленка, которую мы, старики, любим нежной сыновней любовью – хотя бы за то, что в темном пространстве кадра она дает существенно больше градаций черного, чем цифра, – пленка бесповоротно уходит в историю кинематографа. Лебешев не дожил до этих времен. Ни до, ни после, за всю свою длинную жизнь не встречал я никого, кто бы так непосредственно, как дитя, без тени сомнения верил в свой дар и судьбу. Неудачи его только злили. Когда фильм положили на полку, он мне сказал: “Наплюй, все равно мы самые талантливые…”
Но это все случится потом, а пока что в моем рассказе течет лето 67-го года, мы выбрали натуру под Выборгом, нормальные люди уехали на Кавказ или, в крайнем случае, в Серебряный Бор, а мы с Пашкой и художником Володей Коровиным как проклятые сидим в душной Москве над раскадровкой – в сентябре нам снимать. Мы уезжаем в Питер, там продолжается формирование съемочной группы, а главное – мы начинаем пробы актеров на натуре без осветительных приборов, и мне предстоит увидеть, каковы будут плоды долгих бдений, как воплотятся в волшебном изображении наши мечты и фантазии, или, проще говоря, я наконец увижу, чего стоит в деле мой новый оператор.
Покидая столицу, мы поклялись друг другу – не пьем, снимаем на трезвую голову. Но клятву не сдержали, выпили с питерскими друзьями вечером перед первой пробой. Наутро мы выезжаем за город и там, в сельской местности, снимаем актеров и сами как бы разминаемся – строим длинные кадры со сложной мизансценой и движением камеры. Вместо осветительных приборов оператор использует отражатели (щиты, покрытые фольгой) и затенители (такие же щиты, затянутые черной тканью), и на глаз свет в кадре выглядит неплохо. Материал проявляется в лаборатории “Ленфильма”, и приходится ждать несколько дней, прежде чем мы его увидим. Наконец этот волнующий момент наступает, мы усаживаемся в просмотровом зале студии, сейчас нам покажут то, что мы сняли в первый день.
На экране вспыхивает какая-то дрожащая серая жижа, ни черного, ни белого, лицо артиста как будто в маске. Похоже, напрасно мы выпивали накануне. Оператора, наверно, придется менять. Минут пятнадцать продолжается эта пытка, свет зажигается в полной тишине.
Пашка подходит убитый, бледный. Я спрашиваю: “А чего написали в бумаге ОТК?” “Операторский брак, – говорит он с угрюмым вызовом. – Там ошибка в две диафрагмы…” Опустим занавес.
Через день мы смотрим следующий материал – изображение улучшилось, оно уже нормальное, вполне профессиональное, но далеко не такое шикарное, как я рассчитывал. Мы уезжаем в экспедицию, я в тревоге.
Рассвет только занимается, тихий Выборг еще спит, а мы всей оравой торопимся на вокзал, где уже ждет под парами наш игровой поезд – платформа, два обшарпанных четырехосных вагона и древний паровоз, на тендере которого красуется выведенный белой краской подлинный китчевый лозунг Гражданской войны: “Напором дружным, усильем смелым мы капиталу главу сотрем!” Минуем город и оказываемся в заповедном девственном лесу, кажется, здесь не ступала нога человека. В ту пору это была пограничная зона, нас пускали по специальному пропуску. Стоит дивная осень, грибы торчат в траве нетронутые. Состав не торопится, девчонки – гримеры, костюмеры – спрыгивают на ходу, успевают набрать белых и догнать платформу.
Мы останавливаемся на открытом пространстве, начинаем репетировать первый кадр. Стены внутри вагона – почти черные, покоробившиеся, точно вышедшие из огня. Это была идея художника Володи Коровина – опалённость как образ Гражданской. Камере попадаются обгоревшие кусты, обугленные деревья. И в единственной декорации, построенной на натуре – сарае в финале, – Володя своими руками обожжет бревна паяльной лампой.
Снимать без осветительных приборов на ходу поезда в тесном и темном купе старинного вагона с маленькими окнами – задача на грани возможного даже для опытного оператора. Пашка работает хмурый и злой. Обсуждая движение камеры, мизансцену, мы общаемся нормально, но я чувствую, что за каждой командой, которую он отдает, за его мрачными хохмами прячется вызов, словно он задался целью доказать кому-то – всем и мне в первую очередь, – как он уверен в себе. Группа работает безукоризненно – споро, толково, профессионально. Любое пожелание режиссера или оператора, если только оно реализуемо в лесу, выполняется быстро и весело. Результат мы увидим не раньше чем через неделю – ассистент оператора поедет в Питер с отснятым материалом, в лаборатории “Ленфильма” его проявят и напечатают, и он привезет его обратно. К тому времени мы закончим сцену в поезде и перейдем на другой объект.
Возвращаемся в темноте. В гостиничном ресторане стоит грибной запах – девчонки снесли свою добычу на кухню. Надо успеть поесть и торопиться на совещание по поводу завтрашней съемки. Ах, что это была за группа!
На “Мосфильме”, пока ты молодой, ты – крепостной. Заполучить настоящего специалиста практически невозможно, производственный отдел старается всунуть тебе тех, кто долго сидел в простое, – бездарного оператора, тупого художника, ассистента, известного скандальным характером. Конечно, каждому из них тоже надо кормить семью, но ремесло наше довольно жестоко, в нем – относительно высокий уровень конкуренции. Хочешь снять хорошее кино – избавляйся от тех, кто не умеет работать качественно.
А на студии Чухрая – полная свобода, творческого штата нет, зови кого хочешь. Впервые в жизни мы собрали всю артель по рекомендациям друзей: художник по костюмам – со студии Горького, операторская команда – с “Ленфильма”, ассистенты режиссера – мосфильмовские, есть люди из Киева. У группы только один недостаток – сверстники, сплошь молодые парни и девки, романы начались прежде съемок.
В двенадцатом часу ночи у меня звонит телефон. Это Витя Лунин, классный ассистент оператора, сама надежность, – он у нас стоит на фокусе с детской улыбкой и ямочками на румяных щеках. Спиртного не употребляет, что большая редкость в этом цеху, но жуткий ходок, проблема у него одна – женский пол на вечер. “Сергеич, не спите? Может, зайдете? Чапаевки пришли, одного бойца не хватает”. Я смеюсь: “Не могу, новый текст нужен к утру, вот сижу, кропаю…”
Директор картины Полина Александровна Борисова, строгая партийная дама, жалуется, что ночью никого не удается застать в его номере. Мы с Лебешевым возражаем – работают-то они великолепно. “А вы вообще помалкивайте, антисоветчики!” Слово “диссидент” еще не было в ходу. Мне казалось, что втайне мы ей нравились. Она это подтвердит мне через двадцать лет на питерской премьере “Ангела”, когда его снимут с полки.
Утром на съемке появляется ассистент, который привез материал из Питера. Сегодня мы увидим на экране первый снятый объект – поезд. Мысль об этом не дает покоя весь день на съемочной площадке. Ни Пашка, ни я не заговариваем о предстоящем просмотре, мы работаем, даже шутим, но по тому, как притихает группа, я чувствую, что напряжение, которое нас сковало, ни для кого не тайна.
В первом часу ночи по пустым затихшим улицам мы приходим к кинотеатру и топчемся возле двери в ожидании, когда закончится последний сеанс. Наконец народ вываливается, ассистент тащит наши коробки в будку киномеханика. Нас зовут в зал. Затрещал проектор, гаснет свет…
Выборг – серый залив, булыжная мостовая, бульвар с вековыми липами, шведский замок, финский рынок, библиотека Аалто, ратушная площадь – Выборг, остров блаженства…
Я смотрю на экран – поезд с обожженными стенами, портреты людей без грима, грубые, всамделишные, как в уличной толпе, черное – настоящее черное, с выраженной фактурой в тенях, камера поворачивается – и белое слепит, грубый ворс серой шинели, потная белая рубаха, черный плюшевый бабий жакет – можно потрогать рукой…
Значит – это возможно. Все – не зря. Значит, мы можем.
У Пашки и счастье выражается по-своему – глаза сияют, кажется, он готов убить любого, кто усомнится в его предназначении.
Ни выпить, ни закусить – на дворе ночь, магазины закрыты, ресторан давно спит.
Ознакомительная версия.