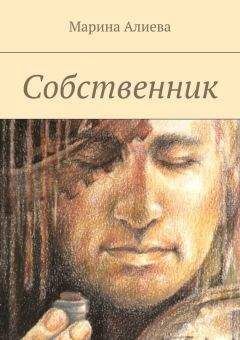Ознакомительная версия.
Вот Санька, тот писал, чтобы оживить образы родителей. Я это сразу понял, как только прочел. А что хотелось бы оживить мне? Нужно вспоминать только радостное… Может, блаженную молодую пору? Когда солнечным воскресным утром, под чириканье птиц, в окно смотрела золотисто-зеленая листва, а подъезд оглашался протяжным криком молочницы: «Молоко-о-о!». И надо было вставать и спускаться вниз, к тепло пахнущей тележке, с большим, как у детской коляски, поручнем; смотреть, как из высокого, мутно-серебристого бидона, при помощи ковша-цилиндра на длиннющей ручке, переливается в банку белое, парное, от чего сводит скулы в предвкушении вкусного. А затем наверх, на кухню, вытаскивать из духовки теплый, слегка подсушенный сверху, батон и хрустеть им с наслаждением, рассыпая по столу крошки и маковые зерна. Их потом так приятно было собирать – оближешь палец и тычешь им, как курица клювом, пока ни одной маковки не останется.
День за окном солнечный, свежий, как ребенок, проснувшийся в хорошем настроении. И, словно для того, чтобы помочь ему умыться, во двор выходит дворник – дядя Миша, (которого все дети почему-то звали «дядя Химик»), и вытаскивает черный, латанный-перелатанный поливальный шланг.
Господи, да неужели и вправду были когда-то в этом дворе времена, когда дважды на дню поливались цветочные клумбы?! И какие клумбы! Я обожал возвращаться сюда из отпусков, командировок и даже просто, с работы, потому что, стоило свернуть от шумной остановки за угол, и тут же оказывался в цветочной сказке, с медовыми запахами и гудящими пчелами…
Уже с весны жители подъездов выходили в свободный день все вместе, жены, мужья, дети, и начинали вскапывать и оформлять эти клумбы. Откуда-то брали и семена, и краску, чтобы обновить облупившиеся за зиму лавочки, белили декоративные вазоны, в которых тоже высаживались цветы.
Двор убирали, как собственную квартиру.
Витька Степанов из соседнего подъезда не боялся на своем пятом этаже выставлять в открытое окно модные гигантские колонки от новейшего магнитофона, и, под сладкий голос Робентино Лоретти, под бодрую песенку про пингвинов или «оранжевое лето», начинали сверкать по всему дому только что промытые и теперь натираемые газетами окна. Вскрывались разомлевшие от первых жарких дней балконы, и соседи, выходя на них с вениками и совками, бодро приветствовали друг друга. «Скоро Первое мая. Вы на демонстрацию идете? О, да, обязательно! И мы тоже. А потом, милости просим… Конечно, конечно, мама обещала испечь торт…».
Ах, эти милые, всенародно-домашние праздники! Жаль, что их аромат развеется в испарениях политических перестроек. Теперь про них говорят, как о помпезных пережитках тоталитаризма. Может, и так. Но, почему-то грустно, когда наступает праздничный когда-то день, и нет больше хлопотливых приготовлений. Тех, когда по всему подъезду носятся немыслимо вкусные запахи. Когда со всей квартиры собираются столы, чтобы составить из них один, длиннющий, вылезающий, чуть ли не в коридор, но зато заставленный от начала до конца маринованными грибами, салатами, котлетами с вареной картошкой… И никому нет дела до правил сервировки. Что может быть правильнее мелко нарезанного молодого укропа на вареной картошке, да, что б, малосольные огурчики рядом. и, конечно же, дефицитное южное вино… Когда гости-соседи приходили со своими табуретками. Когда двери поминутно открывались и закрывались, впускали гостей под радостные приветствия хозяев и тех, кто уже пришел. Какое количество празднующих вмещали те хлебосольные крохотные квартирки? От дружеских приветствий и объятий в коридорах создавалась необычайно приятная толкотня, легкая неразбериха, чем-то похожая на такую популярную увертюру к «Кармен». Тонкими скрипичными партиями из неё выпархивали в ванную комнату дамы – все в нарядных платьях, украшениях и духах – чтобы подправить немыслимого начеса прическу и подвести губки. А в торжестве литавр проходили к столу мужчины, добродушно-солидные даже в носках и хозяйских тапочках, торчащих из-под выходных костюмов. Они потирали руки, словно вошли с мороза, и покосившись на хрустальный праздничный стол, дружно шли, в ожидании дам, на балкон, чтобы покурить и обсудить последние новости.
Тогда не выворачивали головы к телевизору, боясь пропустить острОту очередного модного юмориста, а заводили музыку и, ничуть не стесняя друг друга, ухитрялись самозабвенно танцевать на крошечном, свободном от стола и стульев пространстве под веселенькую, праздничную «Рио-Риту». Или пели, все хором, что-нибудь задушевное, а другая компания, уже вышедшая прогуляться под желтым светом фонарей, одетых в жестяные широкополые шляпы, сочувственно улыбалась и задирала головы к поющим окнам. Им хорошо, и нам хорошо. Чужая радость, почему-то, не раздражала…
И расходились по домам после таких застолий, пышно, широко, с обязательным провожанием до остановки.
Нет, политики могут говорить, что угодно, но сейчас, глядя из окна на пустой, одряхлевший двор с мертвой землей, на облупившиеся, в страшных подтеках, как в слезах, стены домов, я думаю, что и они все, вместе с тихо поскрипывающими на ветру деревьями, замирают, порой в обездвиживающей гипнотической тоске, стоит лишь весенней зеленоватой дымке соткать перед ними образы недавнего прошлого.
Там по чистому, не раздолбанному асфальту, без канализационных проломов и непросыхающих вонючих луж, пестрят ровнехонькие классики. Там каждый год, в начале июня, вокруг небольшой квадратной сцены с обязательной дощатой трибуной, расставляются полки-ходули, и довольные собой тетушки несут к ним из квартир предметы особой гордости – выращенные цветы, скатерти и салфетки, вышитые собственноручно, вязанные носки и детские вещички. Все это расставляется, развешивается на полках, а сверху крепится, неизвестно кем написанный транспарант: «С праздником открытия двора!».
Потом, из близлежащего клуба, приходил духовой оркестр, рассаживался по первым двум скамейкам перед сценой и начинал играть марши и вальсы, оповещая публику, что пора подтягиваться.
К восторгу дворовой малышни, с тарахтением вкатывался мотороллер с прицепом. Мамаши в цветастых платьях спешили посадить на этот «паровозик» своих чад, а отцы занимали места возле сцены. Ещё немного и начнется концерт, надо только переждать скучного лектора. Но потом будут и артисты, и, похожая на Зыкину мама Ольки Подъячевой споет не хуже любой певицы, и Генка Дворников из заводской общаги покажет фокус с платком и стаканом, и любой, кто желает, сможет выступить, потому что кругом все свои.
А вечером, едва начинало смеркаться, приходил Толик по прозвищу Верблюд и, поминутно сплевывая, принимался устанавливать на маленьком деревянном столике позади скамеек киноаппарат! На сцене, на специальных трубах вешали экран, тянули провода к фонарному столбу с прикрученными к нему розетками и долго-долго, обстоятельно и солидно, заряжали пленку. Затем, несколько пробных трескучих пусков и – долгожданное кино!
Пока тополя перед моим балконом не разрослись, все, происходящее на экране было прекрасно видно. Но, разве можно усидеть дома одному, когда все там, во дворе!
Разве может что-нибудь сравниться с обрывом пленки? Этот дикий крик, свист! Все оглядываются на Толика-Верблюда, который кидается хлопотать возле своего аппарата. Потом снова включается пулеметное стрекотание, и двор оглашается страшными, как из бочки, голосами артистов…
Цветет акация, благосклонно прикрывая кружевной листвой слишком яркий фонарь. На невытаптанном ещё дворе безмятежно засыпают желторотые одуванчики. И только в глубине, за кустами возле песочницы, угадывается тихий смех и гитарный перебор. Это Витька Степанов из соседнего подъезда пытается воздействовать на девичье сердце первой дворовой красавицы Иринки Дуборосовой.
Пастораль? Утопия?
Теперь мне и самому не верится, что такое когда-то было. Но ведь оно было на самом деле! Все эти «праздники двора» я ещё успел застать, когда получил от музея квартиру в этом доме. Я помню, как его красили раз в четыре года, как латали асфальтовые дорожки, и долгое время никто не знал, что такое оббитые ступени в подъездах, обкрошенные стены и осыпающиеся балконы. И «дядя Химик» торжественно прописал меня первым же летом моего проживания в этом дворе, когда сурово сунул в руки поливочный шланг и позволил целых пять минут поливать клумбу перед подъездом…
Я был юн и желторот, как те одуванчики, что обрамляли дворовые дорожки.
Я любил весь белый свет!
Я любил…
Какая большая и шумная семья жила в квартире напротив.
Вечером, ужиная после работы, я неизменно, в одно и то же время, ждал летящий из их кухонного окна призыв: «Манюня, домой!». И, заслышав шлепанье сандаликов по тротуару, обязательно выглядывал, чтобы понаблюдать, как послушная Манюня бежит к подъезду, на ходу завязывая ленточки в растрепанных соломенных косицах. Маленькая, толстенькая, с большими наивными глазенками, точно такими же, как у её старшей сестры. Только там, вместо наивности, была всегда одна мечтательность…
Ознакомительная версия.