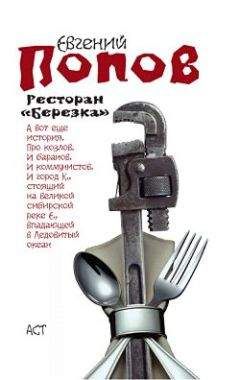И тебя снова не отпускали. Просили читать ещё. И ты рассказала стих Михаила Града «Русиния».
Русинія – мати моя,
Краю полонинськый.
Вічно буде тя любити
Потомок русинськый.
Горы мої, руські горы
Як вас не любити
Ци у журі, ци в радости,
Шуга не забыти.
Многом ходив по світови,
Тай навандрувався:
По Чехії, Мадярії,
Я думум вертався.
Не забуду співаночкы
До любкы ходити,
Бо нітко так гі русинка
Не знае любити.
Не забуду руське імня
І язык русинськый –
На котрум співала мамка,
Коли м быв малинькый.
И опять все жарко тебе хлопали.
Рассказала стих Анастасии Далады
Вышивали наші мамы скатирті білинькі,
Кросна ткали, жито жали до сонця раненько.
И до зорькы з косарями ішли на покосы
З діточками, бикачами по студеных росах.
В диривляні колысочцi дiтий колысали
И не кляли свою судьбу, молитву шептали.
Благородні наші мамкы тяжко все робили,
У прорубах в снігах прали, на полях орали
Долинянкы наші добрі и милі горянкы.
Трудiвниці роботящі, руські, родні мамкы,
Гордилася наша земля усе трударями,
Поетами, косарями, в горах вівчарями.
Богобойні, выробленi, у храмиць ходили,
Перед образом стояли и Бога молили.
В тяжкых муках каждодневных, хлібиць заробляли,
В полонинах сіно гребли, мало добра мали.
Тебя по-прежнему не отпускали.
И тебе пришлось рассказывать новый стих Ивана Петровция.
Духновичем дарованное слово[68]1
О, речь русинская, тебя одну
Я чувствую, как гусляры струну,
Как астрономы даже днём звезду,
Всю сладкую, как солнышко в меду.
Как молоко дитя, тебя я пью.
Никто отнять не сможет речь мою!
О речь русинская, лишь ты одна
Стоишь, как нерушимая стена
Русинских прав и жизненных основ,
Щитом от украинских болтунов,
Что рвут нам сердце злых зверей лютей,
Поскольку не считают за людей.
О, речь русинская, в тебя одну
Я верю и тобою присягну.
В дни страшные, как сердце, он кровит –
Духновичем нам данный алфавит.
К своей свободе по его пути
С русинским словом вместе нам идти!
Снова и снова тебя просили читать русинские стихи.
И ты не могла отказать.
Ты прочла стих-песню Духновича «Подкарпатские русины». В начале XX века эта песня была гимном Карпатской Руси – региона, входившего в состав сначала Австро-Венгрии, а затем – Чехословакии. И через пропасть лет, уже в третьем тысячелетии, эта песня станет гимном Подкарпатской Руси.
Подкарпатские русины,
Оставьте глубокий сон.
Народный голос зовет вас:
Не забудьте о своем!
Наш народ любимый
да будет свободный.
От него да отдалится
неприятелей буря.
Да посетит справедливость
уж и русское племя!
Желание русских вождь:
Русский да живет народ!
Просим Бога Вышняго
да поддержит русскаго
и даст века лучшаго!
Дома Иванко – ты брала его с собой на вечер – расписал этот случай.
Отец взял тебя на руки. Целовал и плакал.
– Отак, дочушка, и учись… С детей люди растут… Ты у меня ещё прогремишь на всю Землю! Как великий русин Никитин[69].
Ты не понимала, зачем это тебе надо греметь, когда тебе до смерточки хочется летать, и сокрушалась, что ты не мальчишка и не можешь, никогда не сможешь поступить учиться на лётчицу.
Как-то после окончания школы ты пришла к Софии.
На ту пору София уже перебралась жить к одному поляку миллионеру.
София была акушерка. В городской больнице, где она служила, не первый год мучилась одна неродица.
Беда в сто коней ездила к ней.
Только завяжется человечек – выкидыш. В другой раз доберегли акушерки, без малого приспел час рожать – опять выкидыш.
После пятого выкидыша, после пятой такой беды муж той несчастной созвал акушерок.
Угнетённый – не рад хрен тёрке, да что же делать, на всякой пляши! – с мольбой заглядывал больничницам в глаза.
– Семья без детей, что сети без рыбы, – жаловался на ущербе. – Золотые панночки, кто охранит жизнь моему ребёнку – королевская премия за мной. Плачý, когда ребёнок наживёт шесть месяцев!
Негаданные шальные доллары – это уже кое-что. Интересно, любопытно по крайней мере. Никто ничего не имел против премии.
Все акушерки хороводом загорелись ухаживать за горевой миллионкой.
Вмешалось, встрело в эту неладуху больничное начальство.
Указало на лучшую акушерку.
На Софию.
День-ночь колом торчала София при роженице и на час не отлеплялась.
Наконец-то благополучно явился мальчик.
На Софьину премию мама и Иваночко выехали в Доробратово.
– А через год-другой, – приобняв мосластыми руками за плечишки плачущих дочерей, утешал их и самого себя отец, – вернёмся домой и мы. Авось грош круглый. Раскатится. Выпряжемся, даст Господь, и мы из нужды.
Но вскоре пыхнула война.
Не то что выехать, хоть и не на что, – письма перестали бегать.
А София всё вольно жила да ела у миллионщика в доме.
Там ждали второго наследника.
Ты часто приворачивала к Софии.
И в тот день, когда кончила школу, тоже пришла.
– Сегодня все наши снимались на память, а я не стала, – подумала ты вслух в грусти.
– Что ж так? Или ты у нас – ни людям показать, ни самой посмотреть? – с гордовитой осанкой долго посмотрела на тебя София, невольно любуясь твоей молодой красотой. Из десятку тебя не выкинешь.
– Платить, платить-то за карточку чем? Камешками?
– А-а, – опало вздохнула София.
Вкоренилась тишина.
Сам собой поднялся разговор о твоём будущем.
– Неужели на то, чтобы мыть посуду, прежде надо кончить школу непременно с отличием? – как бы самоё себя тихо спросила ты и заплакала в голос: никогда, никогда не быть тебе в университете, где спала и видела себя. Дорога вылилась совсем иная. На ресторанную кухню.
За стеной надставил ухо хозяин.
В ясности расслышал твой плач, вкатился катком.
Был он лысый, как тыква, короткотелый, круглявый. Всемером не обхватить.
– Софи! Почему плачет Маргарет? – Хозяин немного говорил по-русски.
Вы долго молчали. Всё стеснялись. Потом таки и выложи, что ты хотела дальше учиться, да не можешь. Отцу, ломившему на шахте по две смены, нечем было платить за учебу.
– О! – воскликнул хозяин. – Нога ногу, а человек человека подпирает. Я помогу тебе добиться до высокого образования. Ты будешь учиться. Я одочерю тебя!
Ты не согласилась на удочерение.
– Хорошо. Тогда я нотариально делаю так, что все расходы на учёбу оплачиваю я. Твоя прекрасная Софи – она у меня на почёте! – спасла мне наследника и разве после этого я имею право не помочь тебе? Прости, пани, тут, – подолбил себя пальцем в грудь, – я вовсе не такой, как с лица.
Что правда, то правда. Какой уж родился, такой и есть. Сверху не подрисуешь.
Лицо, как гречаник порепанный, громоздкое – решетом не накроешь.
Обидел Господь лицом.
Так сердце вставил славянское, отзывчивое.
Ты любила велосипед, бег, плавание, теннис… Была большая умница. Круглая отличница. С одного прочтения запоминала наизусть любой стих. В совершенстве знала четыре языка. В год проходила по два университетских курса. Была весёлого духа.
В университете не могли не заметить твоей редкостной одарённости. Под конец учёбы пригласили со всеми почестями, раскланиваниями в достопочтенные правительственные хоромы штата.
Мог ли твой отец, сманутый сюда блудильниками-вербовщиками, хоть подумать, что его дочка высоконище так залетит?
Никогда…
Не верил старый, припадавший здоровьем шахтер тому, как всё поворотилось. Не верила и ты сама. Нереально всё было. Как в сказке.
Но и из своей сказки ты видела быль.
А быль была та, что по ту сторону океана тиранствовала война. Под войной, в оккупации, изводились мама, Мария, Иваночко.
– Там – смертная беда…
Нанедолго хватило тебе твоей сказки; пришла ты к значительному лицу.
– Почему до сих пор не открыт Второй фронт? – сдавленно выплеснула свою боль.
– Чем больше спешка, тем меньше скорость, – чуже, туманно ответило значительное лицо.
– То есть, тише едешь – дальше будешь?
– Наверняка.
– Но – куда не едешь, там вообще не будешь! Может, кому-то и без разницы, откроют Второй фронт, не откроют. Зато лично мне не всё равно. Там у меня полсемьи. Моё место сейчас там. И только там!
– Позвольте, – оживилось значительное лицо. – А кроме умения произносить зажигательные речи, что вы можете ещё? Не смущайтесь… Вопрос поставим так. В качестве кого вы хотели бы отправиться туда?
– Бомбардировщицы. Да чтоб не одна! Один кол плетня не удержит.