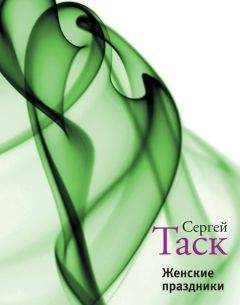Ознакомительная версия.
– А у меня псих, понимаешь ты это, псих! – баба в платке, со своей стороны, выталкивала в круг верзилу с блуждающей по лицу улыбкой.
– Ты справку покажь, – требовала Марья, жена рябого.
– И покажу!
– И покажи!
– Марья, никшни, – прикрикнул на жену рябой. – Этот пришел, из исполкома.
Все прикусили языки.
– Там он, это, в сортире. Интересуется, – сказал он неопределенно. – А мы что… пожалуйста. – Рябой демонстративно открыл настежь дверь в коридор. – Давай, – пригласил он всех высказываться, – без базара только.
– Мы разнополые! – ринулась в атаку молодая.
– Цыц ты. Говори, – ткнул он пальцем в старуху Любовь Матвеевну.
– Повторяю, – старуха почти кричала, чтобы ее было отчетливо слышно в уборной. – После смерти Ивана Алексеича, царство ему небесное, чтобы скрасить одиночество, я пригласила пожить двоюродную сестру…
– Ну так и скрашивала бы в одной комнате, – не выдержала Марья. – На что тебе еще одна?
– Да кака-така сестра она ей? – вскинулась баба в платке. – Жиличка она ей. Ты ж, бесстыжая, объявлению давала в газету! – Баба подлетела к запертой двери, разворачивая обменный бюллетень. – Вот… вот… «Сдам комнату пять с половиной метров одинокой старушке». – Она буравила разоблачительное место пальцем, надеясь силой своей энергии донести как можно зримее печатную картинку до сидящего в уборной.
– Давала, – созналась Любовь Матвеевна, – потому ведь Ленина поначалу-то не хотела, а когда…
– Ты, Любов Матвевна, не финти, – вмешался рябой. – По закону как: шесть месяцев отсутствовал без уважительной причины – вертай комнату государству. – Тут он высунулся в коридор. – 306-я статья! Открой там «Гражданский кодекс», третий справа!
В дверь уборной забарабанили изнутри, но это, похоже, никого не смутило.
– Как это «без уважительной», – всполошилась Любовь Матвеевна. – Мой муж «отсутствовал» эти шесть месяцев, потому что он умер!
– Перед законом все равны, – поддержала мужа Марья. – Претендуешь на площадь – живи!
– А не могёшь жить – вертай государству.
– У меня разнополый ребенок, а эта барыня…
– А у меня псих, видела? Ему, может, отдельная комната положена.
– Ты докажи сначала!
– И докажу!
– И докажи!
Лишь один человек, пожилая, но следящая за собой женщина не принимала участия в суровой битве за пять с половиной квадратов «ничейной земли». Не потому не принимала, что исход битвы был ей совсем безразличен. Напротив. Больше, пожалуй, чем кто-либо, она волновалась за судьбу «темной комнаты», где до ее появления у покойного Ивана Алексеевича была оборудована фотолаборатория, еще напоминавшая о себе кое-какими приспособлениями. Пожилая женщина, Лени́на Георгиевна, мать того, кто по недоразумению оказался запертым в клозете, молчала по той простой причине, что ей нечего было сказать в свое оправдание.
А между тем битва продолжалась.
– Вопчем так, – подвел черту рябой. – Сестра тебе эта Лени́на-Сталйна или не сестра, это нам, как говорится, до моченых яблочек, а комнату эту, Любов Матвевна, ты так и так отдашь…
– Отдашь, – грянул рефреном коммунальный хор.
– …и займем ее мы с Марьей, – просто и буднично, как о погоде на завтра, заключил он.
Молодуха тихо заскулила; мальчик ее, почувствовав слабину материнских объятий, вырвался на свободу; псих закружил по кухне, злобно и вполне осмысленно повторяя «ладно, ладно» на все лады; а его мамаша, баба в платке, опешившая было от такого поворота, вдруг вскочила, дунула к уборной и благим матом заорала под дверью:
– Дашь рябому – живым отсель не выйдешь! Заколочу, паскуда! Дыши тут. Понял? Понял?
Спеша перехватить инициативу, рябой бросился на выручку «товарища из исполкома». Он теснил бабу в платке, пытаясь отвести запор, и кричал:
– Счас, товарищ. Не гоношись, ослобоним.
Для укрепления тылов подоспела Марья:
– Нам, товарищ начальник, расширяться надо… семья у нас перспективная…
– Перспекти-и-вная?! – ринулась в бой молодуха. – Это ты перспективная? То-то он ко мне кажную ночь лезет!
– Лезет, говоришь? – Марья на всякий случай оттеснила от двери опасную претендентку. – Сучка не всхочет, кобель не вскочит!
– А ну, сыми руку, – шипел рябой на бабу, мертвой хваткой вцепившуюся в защелку. – А то я твому психу таку справку сделаю! Статья 46 «Жилищного кодекса», – переключился он на «товарища из исполкома». – Слышь, ты? О праве на освободившуюся площадь. Там, погляди. И еще, это, 191-я и дальше… из Гэ-Пэ-Ка.
– А ты че стоишь? – позвала баба сына. – Врежь ему за «психа»! Ну!
Она захотела показать, как следует врезать, и, видимо, ослабила хватку. Запор щелкнул, дверь открылась. Все как-то разом смолкли. Огородников поднял с пола празднично блестящие пакеты.
– Это ж этот, – вымолвила Марья.
– Ленины сын, – уточнила баба в платке.
Жильцы расступились, пропуская его.
– Говорил, лампочку надо в коридоре повесить, – проворчал рябой.
Ну вот, «данайские дары» расставлены на столе, заграничные пакеты сложены, подошло неизбежное.
– Олег…
– Да, мама?
– Может… я вернусь домой?
– Ты все забыла? Забыла, как Тина сбежала из дому и три дня пропадала неизвестно где? Забыла про Верины головные боли?
– Я не буду к ним лезть со своими разговорами. И воспоминания читать. Честное слово.
– Мама!
– Заберусь в свою норку, и нет меня. Даже выходить…
– В твоей «норке» сейчас живет один… сын моего приятеля из Свердловска, ты его не знаешь.
– Надолго он?
– До августа, как минимум. Он поступать приехал. Способный мальчик. Володя. Вылитый отец. Я думаю, поступит.
– Я ему могу шпаргалки писать. У меня почерк… ты же знаешь, какой у меня почерк. В сорок четвертом, ты еще, ха-ха, отсутствовал в стратегических замыслах командования, я работала в лагере для перемещенных лиц, и когда я писала протоколы допросов…
– Мама, ему не нужны шпаргалки, он хорошо подготовлен. И потом, как ты себе представляешь жизнь в одной комнате со взрослым парнем?
– Да. Я понимаю. Но ведь он в августе поступит? Раз он хорошо подготовлен? Я подожду, что ж, если надо…
– Там у них… с общежитием неважно… а его отец, мой приятель, то есть близкий друг из Свердловска… Даже с Верой вчера поругались. Не выгонять же парня на улицу, правильно? Да нет, со временем, конечно, что-нибудь… В общем, не было забот…
– И не говори, сынок.
– А как твои мемории ? – поспешил он переменить тему.
– Вот, – оживилась мать и потянулась за общей тетрадью. – Контора пишет. Изображаю в красках нашу «раскосую» жизнь в Харбине. Помнишь всекитайскую кампанию против воробьев? Ну как же. Все, и стар и млад, с утра до поздней ночи, сменяя друг друга, бегали с трещотками! По рисовым полям. Под деревьями. Не давали им садиться, пока они все не попадали от усталости. Неужели забыл? Кстати. Как ты думаешь, если я все опишу, это не испортит отношения между нашими странами?
– Не думаю, – рассеянно ответил он.
– А помнишь китайца… как же его звали?., он еще на КВЖД работал… на «линии», как они говорили… помнишь, какие он делал пельмени? Ты как начал наворачивать, действительно вкусно, что же, спрашиваю, вы в них кладете? Он говорит: «Свинину кладу, капусту кладу, сылое яйцо кладу, водку кладу…» Как – водку? А ты за обе щеки уплетаешь! А потом мы его к нам пригласили, и я селедку на закуску подала. Ой, что с ним было. «Не кусай, отлависься! Она совсем-совсем ссылая!» Ну? Селедку нельзя, а питона можно? Как тебе это нравится? Все-таки удивительно: такой культурный народ и такие варварские обычаи. Заказываем в ресторане утку по-пекински, приходит официант с двумя живыми утками под мышками: «Вам какую?» Я, конечно, отказалась, но твой отец, ты же его знаешь, он не мог виду подать, будто его что-то может шокировать. Приносят. Я на эту жареную утку смотреть не могу. А этот варвар, официант, состругивает мясо в тарелку! Как ни в чем не бывало. Точно полено. Представляешь? Мне дурно стало. А этому извергу в переднике все мало. «Сейсяс из костей бульон валить». Из него бы самого бульон сварили, я бы на него посмотрела. Ужасная жестокость, да?
Он машинально кивнул.
– Я уже написала про русский квартал Дао-ли. Про цирк, про оперу. Ты знаешь, что перед войной в Харбине пел Шаляпин? Да! И Вертинский! Написала про еврейскую столовую. Или про это не нужно? Такая тема… Это может осложнить международную обстановку, тебе не кажется? Лучше я подробнее напишу про «сад Яшкина»… тоже, правда, Яшкин … Помнишь зоосад? Так трогательно. Ты был совсем маленький, я привела тебя к клетке с бурыми медведями и начала что-то про них рассказывать. Они как услыхали русскую речь, как стали ко мне рваться, как стали рыдать. Бедняжки. Не смейся, они все понимали.
Он и не думал смеяться, он ее давно уже не слушал.
– Да что медведи, если Любовь Матвеевна поливает свою фуксию, а та вянет и вянет, а я поливаю – нет! А почему? Потому что я с ней секретничаю. Про свою жизнь рассказываю… про тебя. Да-да. Какой ты маленький смешной был, как ты «р» не выговаривал, совсем как китайчонок. Помнишь, мы с тобой в русской церкви были. А там венчание. Поп-китаец выводит молодых к аналою и начинает: «Венчаются лаба божья Татьяна и лаб божий Михаил…» Все головы попускали, неудобно, смеяться в такой момент, а он серьезно так: «Согласна ли ты, лаба божья Татьяна…»
Ознакомительная версия.