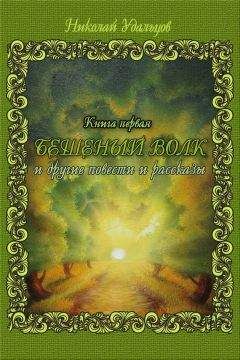Ознакомительная версия.
Не то, чтобы это меня расстраивало, просто мой собственный восторженный перестройкой восклицательный знак, как-то скукожился и превратился в вопросительный.
А душе захотелось чего-то диетического, и я попытался приспособить душу к реальности.
Наверное, так было во все времена: идеалы – это ведь цель только материалистов. Идеалисты обходятся материльным…
Добавлю к этому, что приблизительно в то же время меня оставила близкая мне женщина, которую я считал своей женой, и для того чтобы описать круг моей семьи, мне стало достаточно ткнуть себя циркулем в грудь.
– По Уголовному кодексу нельзя иметь двух жен, – сказал мне Андрей Каверин, – Так, что радуйся.
– Чему? – не понял я.
– Тому, что нельзя оказаться дважды одиноким …
Она же вышла замуж за человека не только нищего, «временно не работающего» уже лет пять, севшего ей на шею, но еще и не прочитавшего в своей жизни ни одной книги, и уже через три месяца объявила, что готова вернуться ко мне.
Тут, наверное, любому станет понятна охватившая меня не то, чтобы тоска, а так, меланхолия.
А с меланхолией договориться трудно…
В общем, на вопросы судьбы я отвечал так себе, на троечку с плюсом. Хотя, может быть – «плюс» – это уже мое самомнение…
…Наш пятиэтажный хрущевский дом окружен восемнадцатиэтажками, строящимися гасторбайтерами – видимо, даже в нашем дворе и люди, и боги созрели для строительства вавилонских башен.
Квартиры в этих домах улучшенной планировки, заранее раскуплены иностранцами всех мастей: кавказцами, азиатами, чиновниками и прочими адриатами, вроде сербов и черногорцев.
Это не к национализму – Бог меня миловал, и национальность людей меня не интересует, на столько, что я могу быть не согласным с человеком любой национальности. Правда, интересует вопрос: почему Бог не миловал человечество, и подарил ему националистические войны?
Это – к вавилонобашестроению.
От этого строительства, наш, и без того, не очень большой дворик, стал еще меньше, огороженнее что ли, и это стеснило сразу две категории жителей нашего дома.
Во-первых, снесли несколько лавочек, и большинству стало негде ругать Чубайса – придаваться любимому занятию тех, кто разочарован даже в своем пессимизме.
Впрочем, этот вопрос решился довольно быстро, и дискуссии были перенесены на лавку прямо под моими окнами.
Вот бывает же так – возвращаешься откуда-нибудь и видишь несколько человек у подъезда, и понимаешь, ну что же здесь такого – соседи, возвращаясь с работы, встретились у подъезда и остановились, чтобы перекинуться несколькими словами. А тут – подходишь к подъезду, и сразу чувствуется, что люди около него сидят с самого утра и болтают ни о чем – о чем можно болтать изо дня в день?
Да, что там, соседи по подъезду – когда выяснилось, что без страха говорить можно все – оказалось, что большинству из нас и говорить-то нечего…
Многие из них безработные. Получают пособие, рублей четыреста в месяц, но когда я предложил за полторы тысячи раз в неделю наводить у меня порядок – пол подмести, да пару чашек помыть – никто не согласился:
– Будем мы на тебя, буржуя, работать…
Как будто бы, за редким исключением, во всем мире всегда кто-нибудь не работает на кого-нибудь.
В конце концов – я, художник, работаю на своих заказчиков.
Больше всего меня раздражали «сливки» этих сидельцев – те, кто время от времени отделялся от коллектива.
В поисках того, где бы стрельнуть на бутылку.
Однажды, я не сдержался, что, конечно, плохо меня характеризует, да только я давно ко всем характеристикам безразличен – подошли ко мне три здоровых мужика и попросили:
– Старик, добавь четыре рубля.
Да черт бы их побрал:
– У вас совесть есть? – сказал я, – Вы бы хоть сотню попросили, а-то втроем четыре рубля просите…
И, главное, аргументы у них какие-то странные:
– Мы же не воруем, как некоторые, – как будто бы все, кто нашел хорошую работу – у кого-то воруют.
Бедность – глупое достоинство.
И, признаюсь, я иногда думал: «Лучше бы воровали, чем ныть с утра до вечера…»
Впрочем, я думаю о них очень редко.
Почти так же редко, как и они обо мне.
И вот, что интересно: чем дальше, тем меньше и меньше остается в нашем дворе таких людей.
Но они становятся сплоченнее.
Не то, чтобы я их не люблю, просто, если у них произойдет что-то приятное для них, мне это будет безразлично.
Не то, чтобы они не любили меня, просто, если у меня случится какая-нибудь неприятность, им это доставит удовольствие…
Вторые, кто пострадал от строительства – это молодые мамы с колясками.
Вообще-то, пресса говорит, что страна вымирает, но если судить по нашему двору, пока – нет.
Собираются молодые мамочки, многих из них я помню еще совсем детьми, и, со своими детишками, помещенными в первом пассажирском транспорте в жизни детишек, отправляются куда-то со двора.
И момент, когда формируется эта группа, просто замечателен.
Все – и дети, и мамы – такие красивые, улыбающиеся.
И не поймешь, что вызывает большую радость – малыши, пытающиеся что-то сказать так, чтобы поняли родители, или родители, пытающиеся говорить так, чтобы их поняли малыши.
Я вообще, очень люблю детей.
– Это от того, что понимаешь, что перед ними стоят не выдуманные проблемы, – сказал мне как-то мой друг, художник Андрей Каверин, заехавший из Москвы в наше примосковье для того, чтобы выяснить – нельзя ли платить «интегрированный налог за дифференцированную в различных субъектах федерации реализацию продукции».
«Продукцией» назывались его картины, проданные в нашем художественном салоне, а «различными субъектами федерации» – Москва и Московская область.
– Надеюсь понятно, почему я называю чиновников иностранцами? – сказал я Андрею в тот раз.
Не помню уже, в тему или нет…
Я люблю детей настолько, что меня даже члены союза художников не раздражают – и с теми, и с другими, я легко нахожу общий язык потому, что отношусь к ним серьезно, как к взрослым.
Только, стараюсь не использовать не понятных им слов.
Думаю, они относятся ко мне так же – во всяком случае, когда видят меня – улыбаются и лопочут что-то не членораздельное.
Впрочем, это – очередное отступление.
А не наступление.
Однажды я стоял у окна и смотрел на колясочных мам, и, наверное, в моем лице было что-то такое, что сидевший у меня Вася Никитин сказал:
– Любишь детей?
– Люблю.
– Я тоже.
Без детей нельзя было бы любить взрослых…
Вот среди этих мам, я впервые и увидел ее.
И обратил на нее внимание даже среди остальных красавиц.
А вообще-то, наш двор иногда смахивает на Голливуд – или действительно, молодые женщины стали красивее, или я стал таким старым, что мне уже все нравится…
Первое, что я не мог не заметить ни как мужчина, ни как художник, это была ее гармоничность. Не худая и не полная, очень стройная, с ногами такой длинны, что их длиннота не бросалась в глаза своей модельностью, а позволяла просто любоваться ими.
Судя по всему – мужчины вообще, сентиментальнее женщин – не разу не встречал женщины, сказавшей, что у ее соседа красивые ноги…
Поначалу, я не сообразил, что у нее большая грудь потому, что она сама кормит ребенка.
Одета она всегда была очень строго, но не ханжески.
Так одеваются женщины, хорошо знающие, что им к лицу.
И умеющие этим пользоваться.
Да и то сказать – если женщина не умеет пользоваться тем, что знает, то какая же это женщина?
Не то, чтобы она производила впечатление женщины, обладающей сильным характером. Просто она была блондинкой.
И это заставляло задуматься о том, какой у нее характер на самом деле?
Как и всякий мужчина, я не раз слышал и повторял анекдоты о глупости блондинок.
До тех пор, пока однажды художник Григорий Керчин не сказал:
– Ни один мужчина не назвал блондинку дурой в тот момент, когда та начинала раздеваться.
Без сомнения, в ней было то, что определяется понятием «современная женщина» – правда я сомневаюсь в том, что всегда могу верно установить, что именно это означает.
Когда однажды я поделился этими сомнениями с моим другом, поэтом Иваном Головатовым, он сказал мне:
– Современная женщина – та, что не только может рассказать сексуальную историю, но еще и понимает то, о чем в этой истории идет речь, – конечно, иронию Ивана можно оценить. Ведь он не только поэт, но еще и врач-гинеколог. И как врачу, ему, наверное, трудно понять, почему женщина пожимает плечами, когда он ее спрашивает о том, откуда, по ее мнению, у нее появилась сыпь после отпуска, проведенного в Анталии, о котором она только что рассказала достаточно подробно.
А как поэту – ему, конечно, все понять легко…
Поэты – это не те, кто придает слову красоту, а те, кто придает красоте слова смысл существования…
…Я не наблюдал за ней специально, но каждые несколько дней, она приходила мне на глаза, и все получалось само собой.
Тем более, что интерес мой был чисто умозрительным.
Ознакомительная версия.