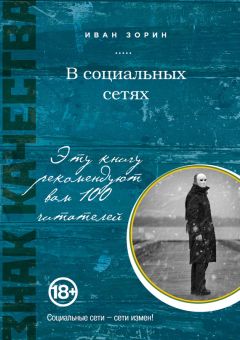– Это ты про меня?
– А про кого еще? Ударить хочешь? Ну ударь! Только ты и на это не способен, как же – интеллигент!
Саша Гребенча слушал и думал, что сын прав, он вдруг понял, почему тот постоянно смотрит в окно и косится на дверь, точно ожидая своего настоящего отца, который сейчас войдет и защитит его от пошлого, грязного мира. Саше Гребенче сделалось неловко, но признать вслух сыновнюю правоту было выше его сил.
– А знаешь, кто такой интеллигент? – снова угадал сын. – Тот, на кого дрочат и кому неудобно за тех, кто это делает.
Отодвинув спиной стул, Саша Гребенча поднялся и, молча расплатившись, поспешно вышел. А теперь при воспоминании об этом он снова покрылся краской стыда. Раскурив трубку, Саша Гребенча закрутился на табурете, точно собирался ввинтить его в пол, и написал в чат Афанасию Голохвату:
«Дети всегда правы, а отцы всегда никуда не годны, на них природа отдыхает».
Почесав за ухом концом трубки, Саша решил, что этого достаточно для запоздалого извинения: Афанасий Голохват был его сыном, взявшим после развода фамилию матери. Этим и объяснялось его частое появление в совершенно чуждой ему группе, где он чувствовал себя как в солончаковой пустыне. Незаметно прошла ночь, за окном повисло серое дождливое утро, казалось, что день никогда не наступит и впереди ожидает лишь продолжение скучного, надоевшего сна. На стене монотонно тикали ходики со свисавшей на цепи гирей, собираясь с силами, в них натужно заскрежетала пружина, чтобы отмерить ударом еще один час Сашиной жизни. Сняв у камина чугунную решетку, Саша ворочал кочергой догоравшие угли, которые изредка вспыхивали синими, лизавшими железо языками, будто яркий день его детства в серой золе воспоминаний.
Один из членов группы не отметился в ней ни единым постом. Он жадно читал ее ленту, равномерно, в зависимости от настроения, распределяя симпатии и антипатии. «Вот языком чешут, а все ж хоть какая-то жизнь». Матвей Галаган был военным. Он подчинялся приказам, умело их отдавал и к своим сорока дослужился до майора. Матвей Галаган был предан долгу, но в последнее время все чаще задавался вопросом, в чем он состоит. «Раньше все было ясно, – думал он, гоняя роту по плацу, – умирали за веру, царя и отечество. А сейчас? Не за деньги же?» В Бога Галаган не верил, царя давно не было, оставалось отечество. «Что это такое? – ломал он голову. – Земля? Вода? Бескрайнее небо? А может, государство?» Но земля и вода были везде одинаковыми, а государство на его веку рушилось, так что он дважды приносил присягу. «А враги? – думал он. – Те, на кого укажут? Мы должны быть готовыми их убивать. А вдруг они завтра станут друзьями?»
– Брось, не думай, – посоветовал ему сослуживец. – А то получается, мы – наемники. Как с этим жить?
– Конечно, – кивнул Матвей Галаган. – Ты абсолютно прав.
А в офицерской комнате, прикрывая ладонью листок, написал рапорт об увольнении. В качестве причины указал ухудшение здоровья, не уточняя, что оно носит психический характер, мучая его смутными сомнениями и безответными вопросами. Сжав бумагу в потной руке, Матвей Галаган долго топтался перед кабинетом полковника, а потом, развернувшись, пошел в казарму, по дороге выбросив бумагу в мусорное ведро. «Деньги проклятые, – глухо бормотал он. – Куда без жалованья?»
В группе Матвей Галаган не вступал в споры, потому что не видел в ней единомышленников, а доказывать что-то людям чуждых убеждений считал делом безнадежным. Как человек строгих правил, клявшийся в верности правительству, он не мог до конца разделить ни революционных настроений Афанасия Голохвата, которым, однако, сочувствовал, ни механического, бесчувственного нигилизма Никиты Мозыря, его раздражала житейская мудрость Иннокентия Скородума, граничившая с вселенской усталостью, он был далек от наивной восторженности Саши Гребенчи. Ему одинаково претили и пессимизм, и оптимизм; считая себя реалистом, он все больше склонялся к жестокой, биологической правде Раскольникова – каждый выживает как может, а зачем, не знает. Однако каждый вечер он проводил в интернет-группе, его, как наркомана, тянуло в общество незнакомых людей, в кругу которых он оставался тенью. «Плохо, когда в сердце война», – читал он сообщение Саши Гребенчи. «Еще хуже, когда в нем мир», – опускался он к комментарию Афанасия Голохвата. Подняв за козырек фуражку, Матвей Галаган чесал мизинцем затылок и не знал, кто прав. Как военный, он не терпел неустроенности, но его раздражало и смиренное безразличие, которое наблюдал вокруг. Однажды к вечеру, когда на двор уже опустились сумерки, он заглянул в окно казармы и увидел на койках своих солдат, которые, слюнявя пальцы, листали брошюру «100 способов разбогатеть». До хруста в побелевших суставах Матвей Галаган сжал кулаки, но зайти не решился. Всю ночь он перекручивал простыни, точно его кусали клопы, а на другой день гонял роту на плацу больше обычного. «А все из-за таких, – вспоминал он посты Сидора Куляша, развращавшие, по его мнению, невинных, которые еще не научились жизни. – Сами несчастливы, а других учат». Вечером Матвей Галаган включил телевизор, щелкая пультом, прыгал по каналам, как воробей по кустам, и везде видел довольное лицо Сидора Куляша. «Народ, как птенец: в его раскрытый клюв клади что угодно, – раздраженно подумал он. – А мерзавцы этим пользуются». Повернув стул, Матвей Галаган сел на него верхом, навалившись грудью на изогнутую спинку, и, подключившись к Интернету, щелкнул «Мне нравится» под комментарием Дамы с @ к посту Сидора Куляша «Меня от вас тошнит!».
Ранним утром Матвей Галаган доставал из-под матраса брюки, которые за ночь обретали «стрелки», извлекал из пропахшего нафталином, скрипучего шкафа вешалку с кителем, и, надев форму, осматривал себя в зеркале. Повернувшись сначала левым боком, потом правым – порядок из года в год оставался неизменным, – он щелчком сбивал с кителя налипшую пыль, поплевав на пальцы, разглаживал кустистые брови. С первым автобусом он отправлялся в гарнизон. По нему можно было сверять часы. Минута в минуту с подъезжавшим автобусом он стоял на остановке, пропуская вперед пассажиров, которых всех давно изучил. В выражении их лиц, в том сосредоточенном усердии, с которым они разглядывали плывший за окном пейзаж, он угадывал унизительное смирение перед автобусным маршрутом длиной в их жизнь. Пассажиры сходили и заходили, а Матвей Галаган ехал до конечной, постепенно становясь самым старым пассажиром автобуса. Книг он давно не читал, брать в дорогу журналы считал ниже своего достоинства; снова и снова он возвращался к мыслям, перемалывавшим его, как жернова. Он представлял мрачную фигуру Захара Чичина, которого знал как Раскольникова. «Жизнь – это выживание. И правило в ней одно: с сильными заключить мир, слабым объявить войну». Автобус тормозил с неизменным фырканьем. Пройдя ворота, в которых ему отдавали честь, Матвей Галаган погружался в атмосферу военного городка с незамысловатой архитектурой прямоугольных казарм, колючей проволокой и караулом у развевавшегося флага. «Идти врозь, драться вместе», – учил он склонившихся над планшетами младших офицеров, а возвращаясь в холодную съемную квартиру, проходил мимо больничного морга и, глядя на тускло светящиеся окна, думал, что и в городе, как на войне, живут порознь, а умирают вместе. «И нет ни правых, ни виноватых, а есть одна человеческая плесень, – вспоминал он опять Раскольникова. – И мира нет, а война постоянна». Поежившись, он поднимал воротник, ускоряя шаг, чтобы быстрее замкнуться в ракушке своего казенного жилища.
Годы летели, будто курица зерно клевала. Матвей Галаган мотался по гарнизонам, не нажив ни кола ни двора. «Судьба такая, – вздыхал он. – У солдата и жизнь казенная». В юности Матвей Галаган легко сходился, куда бы его ни переводили, заводил дружбу с офицерами, но с возрастом совершенно обособился. У него была двоюродная сестра. Они вместе выросли, их отправляли на лето в деревню, где над камышами летали огромные стрекозы и стоял запах свежескошенного сена. Днем они секли прутиками старую злую крапиву, такую кусачую, что от нее не спасали даже сатиновые штаны, а на ночь им читали одни и те же сказки. «По щучьему веленью, по моему хотенью», – слушали они, забившись под одеяло, а за окном плыла багровая луна, и на дворе, казалось, стучит костяной ногой Баба-яга. Утром их поили парным молоком, и они, устроившись на сеновале, грызли карандаши, играя в слова.
– Ты умнее, – обиженно кусал он губы, когда побеждала сестра.
– Я старше, – успокаивала она. – На целый год.
Лето их сближало, они перезванивались потом целый год, обмениваясь новостями, школьными впечатлениями и семейной хроникой. В этих разговорах они находили опору. Так продолжалось до тех пор, пока однажды они не обнаружили, что повзрослели. Матвей Галаган поступил в военную академию, сестра вышла замуж, и уже много лет они как-то само собой перестали общаться. «Жизнь развела, – думал Матвей Галаган, когда случалось вспомнить сестру. – Она всех разводит». Превратившись в нелюдимого одиночку, Матвей Галаган и за интернет-группой наблюдал будто в замочную скважину. «Хорошо, что мы никогда не встретимся», – читал он сообщения незнакомых людей, с которыми у него никогда не возникало желания поделиться мыслями. Он был молчалив, и только выпив в компании холостых офицеров, взявших в руки гитару, подтягивал сиплым, огрубевшим от команд голосом: «Наши жены – пушки заряжены…» Однако в жизни Матвея Галагана был момент, когда он едва не исповедовался. В Страстной четверг он зашел в маленькую часовенку на городской окраине. Служба уже закончилась, и худощавый батюшка с глазами чахоточного проповедовал двум старушкам-прихожанкам.