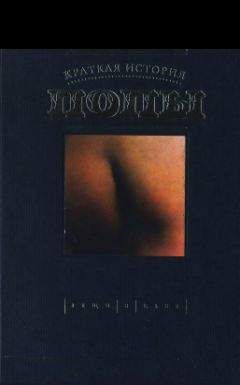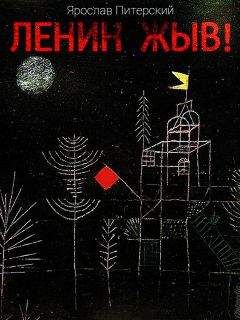– Вам записка, господин Ульянов!..
Она очаровательно улыбалась, эта старая женщина из библиотеки. Так улыбается пустой дом битыми стеклами, когда в него заглянет солнце. А чему улыбалась? Скромной пенсии, которая ее ожидает? Тоже мне, нашла чему радоваться! У меня один тираж антивоенного листка стоит больше.
– Благодарю вас!..
Он привстал со стула и взял из ее рук сложенный надвое листок. Не ожидая ничего хорошего, развернул…
Записка была краткой.
...
«Ждем к 12-ти в знакомом вам кегель-клубе. Надеюсь, вы уже в курсе. Ваш Карл».
Сквозняк тревоги обдал его с ног до головы. В носу зачесалось, неужели мгновенно простыл? Да и в чем он должен быть в курсе? В курсе того, что ты – дурак, Карл?
Он снова посмотрел в газету. И наткнулся на то, что должен был увидеть в самом начале. Вернее, напечатанное в газете проткнуло его насквозь. Кол вошел через грудь и вышел через лопатки. Русский царь умер. Да нет, не умер, а отрекся!.. В пользу своего брата Михаила Александровича. А как же мы? На кого он нас оставляет?..
Ленин вскочил со стула и опрокинул его на пол. В стекло ударила весенняя муха. Она билась и билась лбом, пытаясь вылететь наружу. Так и он, отличник и неудачник, бил почти тридцать лет своим лбом Каменного Тельца самодержавия, а оно ничего об этом не знало. И тут вдруг махом все и кончилось. Нет, не махом. Мах – философ-идеалист, я заклеймил его в одной из своих работ, которую прочло несколько десятков человек… Бедная муха! Только я один тебя понимаю… На волю!..
Владимир Ильич открыл окно, и толстая муха вылетела на швейцарский воздух.
Спотыкаясь и чуть не падая, бросился вон из биб-лиотеки.
Теперь – конец. Вот теперь – конец полный. Маска сброшена. Под ней – лишь организационная пустота, заполненная антивоенными листками. Немецкие деньги, пожертвование купцов-фабрикантов из староверов, партвзносы и даже рабочие медяки – всё бы теперь отдал, чтобы откупиться: только не сейчас революция, пусть бы лет через пять-десять, когда укрепим силы!.. Обладать женщиной неинтересно. Интересней думать об ее обладании. То же самое с революцией. Конкурентов появится множество. Допустим, мы перегрызем им глотки. Опыт есть, сможем. Правительство Львова, как написано в этой заметке? Это – не конкурент. С ним мы покончим быстро. Но дальше-то что? Кто из нас, кроме меня, сдюжит работать в новом красном Конвенте? Левка? Мартов? Радек?.. Последний – трепач. В качестве рассказчика анекдотов – годится. В качестве работника бесполезен. Гришка Зиновьев будет выносить за мной горшки. Юлик сдрейфит. А Левка перетянет одеяло на себя. И это все – на фоне черной крестьянской массы, тупой и липкой. В ней, как в болоте, все растворится и пропадет. Значит, в перспективе – обязательное образование ее, тотальная грамотность, но под марксистским углом. Да о чем я? Разве сейчас время об этом думать?.. А что с немцами? С ними – только мир на любых условиях. А они-то на него и не пойдут, они возьмут Россию теперь голыми руками. Нет, это действительно конец!.. Бежать надо, бежать! На остров!..
Он сидел, вцепившись в велосипедный руль и рассекая упрямым лбом весенний воздух. Для ликвидации государства потребуется небывалый террор. А для создания армии, чтобы дать отпор той же Германии, в случае надобности одного террора будет мало. Да и кто на него способен? Он – нет. В молодости я любил стрелять от отчаяния зайцев. Зайцы плакали, как дети, и потом долго снились. Комфортабельная Европа выбила из меня эту кровожадную дурь. Кого стрелять, зачем? Попов – обязательно. Крупных капиталистов – само собой. Поручить все кавказским товарищам, тем же Камо и Кобе, они всех перестреляют, ибо у них нет мозгов. Одни инстинкты, как у зверя. А раз так, то они перестреляют и нас. Кавказские товарищи опасны. Подальше их. На Кавказ. Пусть там и сидят. Еще есть поляки и финны. Стрелять им будет легче, особенно русских, потому что на Россию они обижены. А мы их уравновесим Бундом. Евреи-демагоги с одной стороны, а неевреи-чухонцы – с другой. Будет ли у весов равновесие? Да нет, я схожу с ума. Какие весы, если я еще даже не в России и в нее, если честно, совсем не хочу? А ведь придется разыграть желание вернуться. Придется срочно ехать, иначе примут за труса. Я и говорю – полный крах!..
Руки его тряслись, руль у велосипеда вилял. Он подкатил к маленькому ресторану Штюссихор на одноименной площади, где часто происходили социал-демократические посиделки. Кегель-клуба здесь не было, и кто его выдумал, неизвестно. А главное, зачем? Из-за конспирации и жонглирования словами? Летом столики находились прямо на улице, и пить кофе со взбитыми сливками за ними, заедая деревенским мороженым, – нездешнее удовольствие! Но, кажется, всё. Отпились. Теперь – только крепкие напитки. Теперь – только белая горячка и исправительные работы.
Навстречу выбежал Луначарский. Всплеснул руками, то ли от радости, то ли от отчаяния, и стал похож на бабу, у которой украли исподнее в то время, как она купалась в пруду после стирки белья.
– Владимир Ильич, есть убитые и раненые!
– Это вы про себя?
– Я не убит, о чем вы?
– Имеется в виду ранение в голову, которое у вас с детства.
– У меня нет ранения, опомнитесь!..
– А совесть у вас есть?
Последний вопрос поставил Луначарского в тупик.
– Я говорю про трудовой народ…
– Это точно не про вас. Вы работать не можете. Как и все остальные.
Он прислонил велосипед к каменной стене, и Луначарский понял: у Ильича плохое настроение. Может быть, даже убийственное. От него в такие минуты лучше держаться подальше – оговорит и оплюет. Но как «подальше», ежели он сам приехал?
– Я имею в виду события в Петрограде…
– Вот вы туда и поедете. Чтобы разложить то, что еще не успело разложиться. И что это за меньшевистская привычка – верить каждому газетному слову? Баба что мешок: что положишь – то и несет. Так написал Гоголь. А меньшевик – это сразу два мешка. И оба набиты небывальщиной.
– Но ведь написано!.. – и Луначарский молитвенно приложил руки к груди.
Он был лучезарен и экзальтирован. А страдал всегда напоказ. Громко страдал, как древнегреческий хор.
– На заборе тоже написано. Однако вы не суетесь в него, а идете прямо в публичный дом.
– Ну я… Я не понимаю! Я тоже Гоголя читал, – соратник пребывал в прострации и чуть не плакал.
– И что же у Гоголя написано? – пытливо сощурился Ильич.
– С некоторыми людьми можно говорить, только гороху наевшись… – доложил Луначарский, густо покраснев.
– Гоголя и вправду знаете. А Маркса – нет…
Не подав руки, Ленин вошел в кафе.
Батюшки! Да все здесь!.. Стены дымятся, воздух колышется и трясется от курева, а окна не открыты. Ведь знают же, что я не курю и не переношу табачного дыма!.. За длинным необструганным столом сидят на деревянных скамейках и русские, и швейцарцы. Почему это называется рестораном? Обыкновенная пивная. А ведь есть в городе более достойные места. Например, кабаре «Вольтер»…
– Вся конгрегация здесь. Весь синедрион, – сказал Ленин самому себе.
И Надя здесь! Стоит бледная. Во рву некошеном. Лежит и смотрит, как живая… И куда девался ее бронхит? Табачный дым ее, наверное, воскресил?..
– Владимир Ильич, напоминаю. Вы проиграли мне кружку баварского пива.
– Шутить изволите, господин коверный?.. – хрипло ответил Ильич. – Какое пиво в военное время?
Перед ним стоял бородатый и веселый, как гуталин, Карл Радек. Он будто сошел с карикатуры: вдавленный нос делал его похожим на обезъяну, а трубка изо рта высовывалась, как перископ подводной лодки, когда он запрокидывал голову и хохотал над собственной фразой.
– Напоминаю, – с интонацией заевшей граммофонной пластинки повторил Радек. – Мы спорили с вами о том, отречется ли царь в случае поражения в войне. Я сказал: отречется. Вы же были иного мнения, говорили, что он будет держаться за трон до последнего!..
Ленин хмуро посмотрел на Радека и на всю камарилью. Ему вдруг показалось, что он играет роль Городничего в известном «Ревизоре». Вокруг столпились чиновники-кровососы, и все ждут решающего слова – отрекся ли Николай или нет? И что в этом случае делать? Только Надя, голуба душа, была совсем из другой пьесы. Бледная, с выпученными глазами, она напоминала страдающую мировую душу. Откуда? Из Метерлинка или Чехова. Декадентка. Сошедшая с ума учительница. Она меня позорит. Декадент есть ренегат, педераст и сволочь во времена усиления реакции и застоя. В петлю его, в столыпинский галстук!..
– Чему вы радуетесь, товарищ Радек? Над кем смеетесь? Над собой смеетесь!..
– Меня фамилия обязывает. Кстати, и в вашей можно найти некоторые сомнительные аналогии.
– Сомнительные? Славно. Но какие же?
Совсем распустились. Дерзят. Вот к чему приводит демократический централизм. Нам нужен просто централизм, без всяких прилагательных. Но он ведет к вождизму и комчванству в первичных партийных организациях. Тоже плохо. И что в этом случае делать? «Задрать юбку и бегать», как говорила моя покойная матушка.