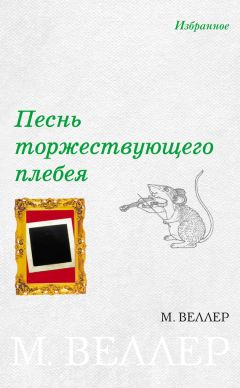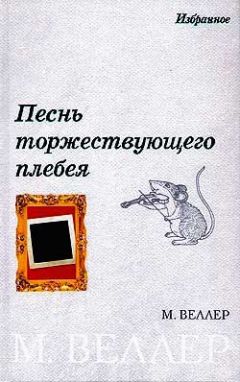Раньше, значит, был «двухкамерный» язык, и состоял он из двух лексических пластов: нормативного и ненормативного. А теперь стал упрощенный, однокамерный. Ненормативный пласт исчез, вместе с ним исчезло понятие нормы, потеряло смысл, не осталось чего отделять одно от другого.
Понизилась структурированность языка. Повысилась языковая энтропия. Функции мата практически исчезли. Исчезла ролевая функция: я матерюсь, ты материшься, он матерится, они матерятся, и это уже не выражает, что один говорун разносит другого, или что оба прикидываются крутыми хулиганами, или командир размазывает провинившегося подчиненного, или подчиненный дает понять командиру, что видал его в гробу, или что мы трое сейчас не на лекции в университете, а в подъезде пьем на троих. Исчезла функция неформальности общения: чтение лекций аспирантам и ругань со шпаной в подворотне звучат теми же словами. Исчезла функция экспрессии: все слова разрешены и равны, и когда ты вмазываешься на машине в столб, нет никакой разницы в эмоциональности последнего слова «пиздец!» или «конец!». А пока-то есть, а?
Табуированность мата не означает, что его употреблять нельзя; все употребляют. Табуированность мата означает, что употребляя его – ты нарушаешь и взламываешь табу, суешь в общее языковое помещение слово из отдельной кладовки, и весь язык, фигурально выражаясь, вылупляет глаза на это слово: ох да ни хрена себе нам соседушку засадили!
Детабуирование мата означает: трех соседушек умыли, приодели и поселили вместе со всеми. Долой дискриминацию: и «пизда», как равная коллега и подруга, села на одну лавочку с «влагалищем», «щелью» и «половым органом». И говори что хочешь, и никому нет дела.
Оп! – внимание. Вот именно: «и никому нет дела». А сущность мата – чтобы кому надо было дело! Я не просто называю предмет или действие – я одновременно оскорбляю тебя, или даю тебе понять, что мы оба – свои, не какие-то чужие на формальном уровне, или сам себе говорю: чужих рядом нет, или вообще никого рядом нет, и рассупонюсь-ка я душевно, изолью имеющееся свободно и без напряга. И так далее.
То есть. С детабуированием мата мы добавим к нашим двумстам тысячам слов еще три. Процент в нолях после запятой считайте сами. А потеряем лексический пласт и норму как таковую. Вот такая нехитрая арифметика.
Мы ничего не добавим к тому, что и так имеем. Наоборот: мы лишимся кое-чего из того, что имеем. Понятно ли, ясно ли? Или еще проще требуется?..
Еще вопрос, как неизбежное следствие. Так употреблять ли мат в книгах или тем паче с эстрады?
О книгах. Здесь мат представляется допустимым только как редкое, сильное, «сине ква нон», исключение. Когда смачный бряк мгновенно добавляет красок и эмоций тексту. Книга, написанная сплошным матом – та же попытка детабуирования, и делается такой текст грязновато-скучным, как речь низколобого люмпена, который не матерится, а просто так разговаривает. То, что втыкается в каждом абзаце и строке, теряет экспрессию, экспрессия мата не может тянуться во времени, как жвачка. Мат – это протуберанец на солнце языка: а сплошные протуберанцы всего лишь сливаются в новую поверхность, клочковатую и рыхлую по сравнению с настоящей. Пускание языковой энергии в сплошные протуберанцы быстро истощают энергию языка – а равно и одновременно энергию восприятия соучастника-читателя. Получается вялость и неприятство.
Еще: чтение книги – акт интимный. Читатель наедине с автором, вдобавок автор скрыл себя за текстом. Книга не рассчитана на чтение публике вслух, поэтому допустимо в ней больше, чем на публике. Читателя никто не видит, не слышит, может, он вообще эту книгу в сортире читает, его дело. Какает и читает. Если ему можно при чтении какать – автору можно порой и выразиться. Для пользы дела.
А вот в зрительном зале какать не принято. И мат со сцены заставляет зрителя вдруг ощутить себя не то на блатной сходке, не то в загаженном подвале, не то за хавло отсталое его считают продвинутые актеры. Он же на концерт в грязных кальсонах навыпуск не заявился!
Приложение. О мате в диаспоре.
Когда я учился не филфаке, будущие переводчики щеголяли матом изучаемого языка, расширяя свои лингвистические горизонты и вживаясь в живую плоть лексики и грамматики. И вот поднимается по лестнице очаровательная девушка-испанка из эмигрантской с 39-го года семьи, и слышит крутые рулады родной речи: это наши испанисты перекуривают на площадке. При виде ее они слегка смутились по молодости – а у нее рот до ушей и румянец никак не от оскорбления, а скорее от удовольствия. Свое услышала, домашнее, в холодной далекой стране, от чужих ребят!
Наши в эмиграции матерятся промеж собой свободнее и как бы легальнее, чем в России (это речь об интеллигентных людях в разнополом обществе). Чужая языковая среда кругом. Русский мат во всех своих функциях просел, подрастаял. И основной его функцией становится национальная идентификация. Вот такой дым отечества с ностальгическим запахом. Грязность употребления сильно снижается. А появляется: мы все здесь свои, русские, земляки и все, что напоминает исконные корни, промеж своими нам приятно – это ведь тоже часть родины.
Заключение. Наличие языковых табу всегда и во всех развитых языках говорит об объективности этого процесса. Табу есть обогащение языка и усложнение его структуры. Отмена табу – есть обеднение языка и упрощение его структуры. Эти периоды ложатся на эпохи упадка цивилизаций, размывание морали и энтропию социума. Хай!
О психосоциальной сущности новояза
– Пригласили в телевизор. Престижное ток-шоу. Интеллектуалы дискутируют: почему приблатненный жаргон пустил корни глубже пырея и звучит от Госдумы до книг современных классиков. Вылили море глупостей: в тюрьме много народу сидит, многие сферы жизни криминализированы, воры тон задают и т. д. Не сказал и ваш покорный слуга ничего умного.
В телевизоре вообще трудно говорить. Слово предоставляется по очереди, отреагировать на чьи-то слова сразу невозможно, а разговор скачет по головам, как растерявшийся заяц; тут ведь главное – отметиться и заявить о себе яркой хлесткой фразой, на выяснение истины времени нет. Истину в тиливизире не выясняют – лишь обмениваются обрывками готовых мнений.
Преимущество работы писателя в том, что задний ум, который, как известно, у всех крепок, для письменника является основным и рабочим. Его сегодня обхамят – он послезавтра придумает удачный ответ и тут же его запишет для потомков.
Дык вот. Язык имеет ряд функций. Да? Коммуникативная – лишь одна из них. Это вообще. А по частностям – эмоциональная, профессиональная, социальная, психологическая. И др., и пр.
Правит кто? Сила. Будь то ствол, кулак, связь или деньги. Лояльный гражданин повязан законом, милицией и собственной слабостью. Вор, бандюк, казнокрад не повязан ничем. Откупится или закажет убийство. Криминализация страны – банально.
А человек всегда хочет выглядеть как? Получше. Хорошо одеться, плечики расправить, квартира-машина: я тоже значительный, я тоже много могу. Каждый ведь хочет быть хозяином жизни.
Ядовитое насекомое предупреждает яркой раскраской: не тронь, хуже будет! А безобидное – мимикрия – подделывается под него: пусть и его опасаются и не трогают – жить-то хоцца.
Безобидный и даже культурный гражданин прикрывает словечками «лох», «кинуть», «беспредел» и пр. свою полнейшую беззащитность и беспомощность в этой жизни. Подражая разговору «крутых», он и сам себе кажется чуть круче, чем есть, и в подсознании слегка надеется, что другие его тоже воспринимают чуть круче, чем бедолагу-фраера. Вроде бы он и значительнее выглядит, подражая речи тех, кто ничего не боится, с кем опасно ссориться, кто делает бабки и убирает врагов.
Так мальчики во дворе начинают с раннего возраста материться, чтобы приблизиться хоть этим к королям пятачка, опасным, агрессивным и бесстрашным.
Употребляя приблатненно-деловой новояз, фраер пытается упрочить свое положение в глазах других и в собственных. Он испытывает при этом смесь удовольствия и неловкости, как матерящийся благовоспитанный мальчик из приличной семьи, приблизившийся к кучке хулиганов. Избить и украсть он не может, но пока никто не дерется и не ворует – он в собственных глазах почти не хуже их, в общем неотличим, такой же, тоже лихой и опасный.
Одна из функций языка – престижность. Новояз добавляет престижа. Говорящий этим приближается к образу крутого. А крутые – это престижно, они сегодня хозяева жизни: они ездят в «меринах» и БМВ, спускают штуки баксов в казино, проходят в депутаты и с руки кормят милицию, и решают любые вопросы, и про них пишут книги и снимают кино и сериалы.
Милые мои! Да бандюк – Герой Нашего Времени. А народ всегда подражал своим героям и стремился к ним приблизиться, желательно демонстративным и безопасным образом.
Блатолизация языка выражает духовно-идеологическую блатолизацию всей жизни. Только и всего.