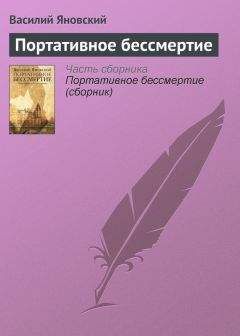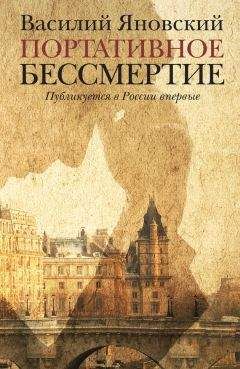2
Проснулись мы почти одновременно, рано. Вместе вышли. Я знал, что мое нетерпение будет только расти, в одиночестве достигнет гиблых размеров, и потому цеплялся за Спинозу, которому порядком надоел: он вспомнил про неотложное дело и скрылся (а может, правда, свидание). Собственно, я не верил, что сейчас (да хоть когда-нибудь) увижу Лоренсу.
А Жан двоился. То мне казалось: иду на свидание с другом, братом, учителем, которому обязан всем (даже теперешним, вчерашним, своим внезапным пробуждением, воскресением к реальной жизни); то вдруг – по-летнему небу туча – я темнел, хмурился, коченел, стараясь подыскать слова вражды и средства мести. «Потребую объяснения, скажу всё что думаю, и не удовлетворюсь туманными намеками».
Я надувал щеки, выпячивал грудь, но скоро забывал продолжение, менял направление мыслей, точно ложась на другой галс. «Вокзал, меня ранивший еще в детстве. Кто виноват… Цветные, подвижные фонари, голос рока, разлуки, мертвецкая, и профиль Лоренсы (стянуты волосы), Жан сверяет часы в окне уплывающего экспресса, его плечи слишком широки (новое пальто), заслоняют многое. Я не люблю широкоплечих. С ними у меня особый разговор. Скажу ему… Лик Лоренсы, лоб матери, профиль сестры на обоях (войны, революции). Брось, чудак, кто виноват… Жан, Жан, не женщина станет меж нами, еще раз (быть может, последний) я иду за тобою». С этим я приближался солнечным утром к знакомому, сумрачному подъезду. А там лучистый квадратный дворик; открыл широко рот – подобие поклона – на уровне окна консьержа. Он износился за это время: обрюзг, полинял, словно вывалялся в муке. На площадке: «Да хватит ли у меня сил взглянуть на Лоренсу, ведь сейчас…» Я повернул, решив спуститься побродить, набраться духом, сообразить, но внезапно дверь щелкнула, стремительно распахнулась – и на пороге: выбритый, загорелый (вождь после колониальной кампании), с тяжелым бычьим затылком, много изменившийся – Жан Дут! «Войди, – сказал он хрипловатым голосом. – Сюда». Сперва затворил дверь, потом взял мою руку: «Ты собирался бежать?» «Я думал, Лоренса, не знаю!» – начал я оправдываться. «Лоренсы нет», – пояснил он тихо и обнял меня. В обширном, пресловутом кабинете собралась уже вся компания, резко выделялось несколько экзотических чужих лиц. «Подойди, я тебя представлю жене», – приказал Жан. Навстречу поднялась желтая, крохотная женщина с приплюснутым носиком и раскосыми глазками. Грациозно протянув игрушечную, бескостную ручку, она произнесла фарфоровым голосом: «Мадлон!» Жан чего-то ждал, действуя как гидравлический пресс на меня: я склонился и поцеловал смешные, резиновые пальцы. Снова меня подтолкнули, и вот черно-багровое, косматое существо – негр, папуас, австралиец, караиб? – нечто обезьянообразное, вдруг шагнуло вперед, качаясь, плывя на сильных, но каких-то несуразных, согнутых коленках, волоча по полу штанины. Одной рукою вынимая изо рта дымящуюся трубку, улыбаясь – должно быть, светски, – он протянул мне другую: очень горячую и волосатую, со сползающей льдиною бело-крахмальной манжеты. «Бам-Бук», – отрекомендовал его Жан. Медленно отступая, пятясь, он терпеливо проделал в обратном порядке те же движения и наконец опустился в кресло. Но мимо, я смотрел уже мимо, одурманенный знакомым овалом возмужалого лица, с мальчишеским ежиком волос. «Педро», – плачуще воззвал я, раскрывая объятия. Он встал, красивый юноша, явно хворый (а в краях губ и глаз отражение Лоренсы: вопрос, ожидание и одновременно столько доверия). «Педро!..» Он виновато помялся, но молчал. «Не узнает, – объяснил Жан. – У тебя на носу сажа, что ли», – и повернул мое лицо: в упор к себе. Через минуту, вздохнув, отвел глаза, рассеянно бросил: «Не сердись, ведь он был ребенком, да и то в припадке». Меня обступили друзья – те же. Иных я уже не встречал годы (Липен, Савич), с этими недавно беседовал (Спиноза, Свифтсон). Но как все изменились, сдали. Самое ужасное происходило с Чаем и Дингвалем. Их время отмечало особым клеймом: странное дело, не видать морщин или седых волос, а хочется стенать от жалости. Один Савич чудом избег общей участи (разве что нос еще набух, отвис).
Я устроился на диване, рядом с Липеном (Германия моего детства, он посерел, раздался в плечах, лицо широкое, – старший брат того). Перед нами, посередине тяжелого стола, возвышалась стеклянная банка, наполненная, вероятно, спиртом: в ней, слегка на боку, покоилось человеческое сердце. Я видал разные препарированные части, дюжинами, в музее анатомо-патологической медицины, но с первого взгляда на это хрупкое – детское или женское – сердце во мне что-то оборвалось, мучительно заныло в крови. «Друзья, – раздался зычный, торжественный клич Жана. Он стоял в центре комнаты, расставив ноги, как на палубе судна, крайне взволнованный (не подозревая того). – Десятилетия я жду этого дня. Он был продуман до всех мелочей. Однако главного я предвидеть не мог! – Жан указал на сердце в банке. – Вот между нами сердце отныне, точно радуга между Иеговою и патриархом. В эту минуту завершения систематического, каторжного и вдохновенного труда хочется засвидетельствовать любовь и верность Богу – Отцу, нашему Творцу, Сыну Христу, чьим именем дано спастись, и Духу Святому, питающему все благодатью. Будем просить и о дальнейшем соприсутствии Всей Троицы, ибо, как вы догадываетесь, вероятно, конец моего личного дела является только серединою нашего, большего. Отче наш, иже еси…» – в другой тональности продолжал он. Мы поднялись и все подхватили, хором скандируя слова молитвы (Мадлон и Бам-Бук судорожно перекрестились слева направо). Изредка чей-нибудь голос, словно споткнувшись, звякал и выпирал из хора на какой-нибудь фразе. («Да святится имя Твое»: Савич; «да приидет Царствие Твое»: Жан; «хлеб наш насущный»: Спиноза; «и остави нам долги наши»: Свифтсон). В наступившее затем райское благоухание мира (где осязаемо реяли силы небесные) вдруг вкрались звуки, похожие на заглушаемый рев: то Бам-Бук, держа сверкающий платок у лица, осклабясь, не то рыдал, не то смеялся от блаженства. «Братья дорогие, – опять торжественно обратился к нам Жан. – Как вы знаете, два с половиною года тому назад я уехал отсюда в бруссу [149] , чтобы продолжать экспериментальную работу. Мы жили в тропическом лесу среди обезьяноподобных людей и человекообразных обезьян. Жена моя заболела и вскоре умерла. Я решил: пусть сердце Лоренсы останется, оно мне поможет в поисках… и вырезал его. При помощи малокалиберной каучуковой трубки я подавал через отверстие аорты питательный раствор Рингера-Локкэ {49} : сердце продолжало пульсировать. Оно имеет автономные центры, вам это известно, тут нет даже подобия чуда. Оно билось долгие месяцы у самого изголовья: спал ли я, работал, – всегда рядом, вместе. Даже уезжая, никогда не переставал я мысленно следить за его жизнью, участвовать в ней. Оно мягко, обнадеживая, сжималось за стеклом: двадцать, тридцать ударов в минуту, иногда ускоряя, то совсем замедляя: похоже было на то, что многое, кроме усовершенствованного состава Рингера-Локкэ, влияло на его систолы. Как ни странно, сердце утешало меня. Оно учило, вразумляло, толкая вперед – опять сначала, не сдаваться! Подсказывало неуловимую тайну, любовно, всепрощающе мигая в дикой ночи. А работа не спорилась: планы, казалось безошибочные, не оправдали себя. Я чувствовал: разбит на этом пути, но отказаться от первых предпосылок не мог. Выдохся. Увлекся охотою, прогулками по неисследованным трущобам и руслам исчезнувших рек. Пропадал надолго из дому: пришлось выписать из Аннама хозяйку. Она оказалась с некоторыми способностями. Тропики. Лес, болота. Скоро Мадлон стала моей женою или вроде того. А между тем я давно уже замечал: слабее, тише бьется сердце Лоренсы. Мадлон делала всё что надо, всё, как я, даже аккуратнее. Правда, Мадлон?.. Я помыл орган, изменил систему питания: опустил, окунул целиком в раствор, меняя его регулярно… но не помогло. Однажды, вернувшись из леса, я нашел его уже вторично мертвым. А ведь с некоторого времени опека стала лучше, тщательнее: мне лично, за думами и мечтами, случалось забывать, пропускать сроки, я мог неделю просидеть не шевелясь, глядя на мигающее сердце. Тогда я сообразил: да ведь это научно поставленный опыт. Если только Рингер-Локкэ поддерживал сердце, то почему оно сдало именно к тому времени, когда уход стал регулярным?.. Что изменилось в обстановке?.. Больше не было: ночного бдения перед вечным другом, дней, в течение которых я, без слез, неотрывно следил за его ликом, сурово и нежно улыбаясь; а если отлучался, то и это не мешало мысленно продолжать участвовать в его жизни (каждая моя систола твердила о Лоренсе, принадлежала ей, потому что я воистину любил). Значит: сердце билось не от раствора солей англичан (или капли внутренней секреции желез, что я добавил), а благодаря любви. Трепетание одного сердца подталкивало другое, делало его существование необходимым, душа бдила за двоих, мой ритм передавался туда: пульсации крепли вместе с моей нежностью, слабели, когда я удалялся. Я не смог бы ее сохранить для полной жизни: моя любовь недостаточно велика (согласился же я ее потерять!). Даже щепоть любви, на которую я был способен, и та начала испаряться: тогда сердце совсем остановилось (несмотря на Рингер-Локкэ и чиновничью аккуратность Мадлон). Итак: если бы вся земля, два миллиарда существ, любили Лоренсу, она бы не умерла! Если бы моя тощая привязанность длилась, сердце пульсировало бы доныне. Друзья и братья, мой опыт важен тем, что впервые демонстрирует объективным, научно-экспериментальным путем биологическую ценность любви. Борьба за бессмертие превратилась отныне в борьбу за “миллиардную” любовь. Когда мир полюбит Жана с такою силою, что сумеет беспрерывно пребывать в нем, когда мы все одновременно так же обратимся к Мадлон, то никто из нас уже больше не окоченеет. Сия тайна открывалась издавна в других символах многим. Свифтсон говорил о подобном, заблуждаясь, однако, в средствах: испокон веков одиночки копались, достигая личного удовлетворения, но мало в чем меняя целое. Как же выполнить задачу… В течение данного отрезка времени зажечь всех! Я испробовал метод обратимости, который мне оказывал услуги при других, менее важных обстоятельствах. Если у человека под влиянием любви повышается жизненный тонус, учащается пульс, ускоряются ритмы (порыв), выделяются обильнее секреции (дыхание, вазомоторы {50} и пр.), то, вызвав искусственным путем подобные же: пульс, дыхание, секреции… не начнет ли объект испытывать восторга любви? Все перечисленные выше симптомы в значительной мере являются следствием пропорционально-острого раздражения симпатикотонической системы [150] . И действительно, раздражая ее особыми возбудителями, я добрался к намеченной цели: все мои объекты начали попадать в самый центр религиозного циклона, евангельской, всепобеждающей любви (когда море действительно по колено). Оставалось только усовершенствовать мое изобретение, найти удобный и верный способ такого же безошибочного воздействия на расстояние и в крупном масштабе (миллионы должны подвергнуться цельной обработке, преображаясь). Я не стану упоминать о разных фазах моего откровения, тяжбы с материей: как всегда, это плотная амальгама страстного напора и жульничества, расчета и случайности. Вот он, вот, перед вами!» – Жан Дут обернулся, отступил в угол, где стояло нечто накрытое черной тканью (подобно старинным фотографическим аппаратам), и ловким движением, как престидижитатор [151] , он сбросил траурное сукно, открыв нашему взору систему колб (рентгеновских ампул) с экраном: провода вились кругом. Педро, Бам-Бук и Мадлон помогали ему, хлопотливо разбирая шнуры (звякали и серебристо блестели крохотные, таинственные пластинки). Они выкатили легкий аппарат на середину комнаты, Жан шепотом отдал на незнакомом языке распоряжение: прибор подтолкнули ближе к окну. «Друзья и ученики! – снова начал Жан. – Я включу эту лампу. Она горит невидимым светом, а лучи ее могущественны. Их имя – Омега, если хотите, лучи любви или жизни. Всё, что попадает в зону их действия, хоть на тридцать секунд, подвергается чудесному влиянию, претерпевает райское изменение. Я могу уже строить жерла с радиусом досягаемости в десять километров. Но и это не предел. На плоскогорье Индокитая, в области диких Мойев {51} , я однажды добился результатов, о коих лучше пока умолчать, ибо разум этого еще не приемлет. Мужи и братья! У нас будет много таких ламп. Поглядите же, как они действуют! – и он нагнулся к рычагам. – Ступайте сюда!» – вдруг жестко приказал он, указывая место за щитом. «Послушайте, – крикнул Свифтсон. – А эти лучи не могут нас задеть?» Жан подтвердил догадку: «Разумеется. Вы должны стать за экран. Вот панцири и шлемы! – он швырнул нам груду изумительно легкой одежды. – Это шелковистая, древесная, пробочная ткань, обведенная особой смолой. Заметьте себе: достаточно любого контакта с так называемыми хорошими проводниками (металлы), чтобы свести защитную роль этого вещества к нулю». Мы все облачились в легкие саваны и стали под прикрытие. «Готово? – несколько гортанных слов к Мадлон. – Глядите! – возобновил Жан. – Вы его знаете. Вон там, внизу. Это консьерж. Годами мы исходили кровью, но напрасно. По мнению Свифтсона, должно терпеть. В крайнем случае, вечность обойдется без него. Но сегодня наш праздник. Ныне силы небесные невидимо служат с нами». Во дворе у крана шевелилась знакомая туша консьержа (я видел только его багровый затылок).