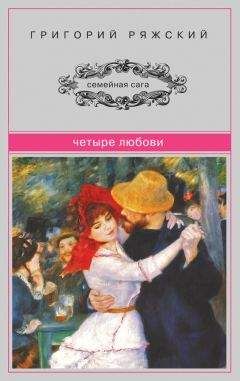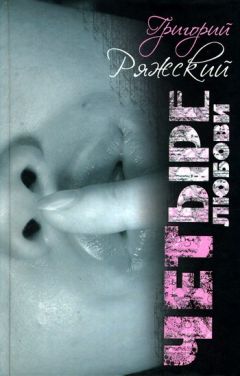Девочка получилась маленькой, меньше, как ей показалось, чем того требовала будущая жизнь, но в то же время – очень славной, с миниатюрными пальчиками на руках и ногах, пухлой складчатой попкой и неожиданно длинными черными волосами на маленькой кричащей головке.
– Есть! – радостно выкрикнул молодой врач-акушер, после того как снова нажал локтем на верх Любиного живота. Показалась головка, и стало ясно, что кесарить теперь не придется. Он принял на руки первенца, благополучно завершившего выход в человечество, и с восторгом неопытного специалиста, неожиданно для себя самого сделавшего работу хорошо, поднес ребенка совсем близко к ней: – Девочка у вас, мамочка!
Настолько близко поднес, что лица Любочкиного Люба рассмотреть хорошо не смогла, но зато успела почувствовать, как остатки боли в момент откатили, отхлынули, как внутри у нее стало просторно и непривычно пусто, не там, где ныло и тревожило, а ниже, за брюшиной, в самой сердцевине прошлой боли. В том месте же, где была «под-ложечка», где Любочка придумалась и получилась – сначала сама, а потом уже и это имя – стало, наоборот, тепло и нежно, будто кто-то разминал и поглаживал, не объясняя, для чего это делается. Любочка тем временем растянула рот в широкой безмолвной улыбке и снова прорезалась таким криком, что у Любы на миг остановилось сердце, и она в страхе посмотрела на врача. Тот подмигнул молодой матери и весело отреагировал:
– Ишь раздухарилась! Имечко хочет. Как звать-то тебя будут, марципанчик? – Он вопросительно посмотрел на Любу.
– Люба она, – с тихой радостью произнесла молодая мать. – Любочкой будет, как я… Только Маленькой…
Геник прилетел в роддом прямо из мастерской, как был: с не отмытыми как следует от краски пальцами, в прокуренной своей затасканной куртке и без шапки, несмотря на крепкий январский мороз. Машина его по обыкновению не завелась, и он добежал с Фрунзенской набережной до Пироговки за двенадцать минут, возбужденный, счастливый, с идиотской улыбкой на сильно небритой физиономии, свидетельствующей о том, что щетине этой дней не меньше, чем сроку, исчисляемому с начала последнего запоя. Про цветы и записку в палату для рожениц он не то что забыл, просто не подумал вообще, не свел необходимые концы с нужными началами. В результате никуда его не пустили, и получилось, что он просто постоял в предбаннике. Обмозговав там же ситуацию, он двинул к ближайшему магазину придумывать имя дочке. Товарища по счастью он искал недолго, поскольку деньги за последний макет еще закончились не совсем.
– Как жену-то звать? – спросил его найденный партнер, тоже небритый, но без сильно выраженного, как у Геньки, творческого начала. – Бабу-то твою…
– Любой, – ответил счастливый отец.
– Тогда Валей девку назови, – предложил почему-то мужик неожиданно смелую версию. – Как у Терешковой чтоб было имечко. Космонавтское. – И попросил два рубля до завтра с отдачей в том же месте в то же время.
– Никогда, – твердо возразил Геник. – Никогда моя дочь не будет с мужицким именем жить. – И совсем уже нетрезво добавил: – Не желаю подобной демократии для моего ребенка. В вербальном, конечно, смысле.
Мужик уважительно посмотрел на Геника, сосредоточился и сделал новое предложение, не менее неожиданное, чем первое:
– Тогда, кроме Любки, ничего не остается больше. Чтоб проверено было уже. И не запутаться…
Предложение мужиково понравилось, и рубли Генька дал, однако на встречу не явился. В назначенный час он уже почти не вспоминал о ребенке, его имени и жене Любе, потому что в связи с рождением дочери ушел в запой уже настоящий, без самообмана и неоправданных перерывов.
Домой из роддома Люба не вернулась. Она поймала такси и поехала к матери, в их пятиэтажку в Бирюлево-Товарном – жить дальше уже без Генриха. И когда через две недели Геник вышел из запоя и начал разыскивать жену, а разыскав, узнал заодно, что дочь его – тоже Люба, Любовь Генриховна, он ничуть не удивился, а воспринял это должным образом – так, будто готовился всю трезвую часть своей бестолковой жизни назвать своего ребенка именно этим именем.
Лет до двенадцати Люба Маленькая хлопот семье не доставляла совершенно. Единственным моментом семейного сопротивления было то, что Любовь Львовну она упрямо называла бабаней или реже – бабой Любой, чем вызывала ее гнев. Правда, в таких случаях она быстро прикрывала рот ладошкой и с откровенно поддельным испугом ахала:
– Ой, я забыла. Я не нарочно…
Свекровь замирала на месте, глаз ее холодел, и она выдавливала из себя через плотно сжатые губы что-то среднее между шипением гремучей змеи и жужжанием шмеля:
– Я ж-ж-ж-е прос-с-с-ила вас… Преду-преж-ж-ж-дал-л-а… – При этом она всегда смотрела в Левину сторону.
Леве потом приходилось объясняться с матерью после каждого такого случая:
– Она же ребенок, мам. Она рассчитывает на ответную ласку.
– Она не твой ребенок! – Мать успокаивалась небыстро. Быстро – не входило в ее планы: не получалось нужной подпитки. – И не моя внучка! Они не должны рассчитывать в этом доме ни на что особенное…
Сын порой слегка раздражался, но всегда держал себя в руках:
– А чего бы ты хотела, мама? Я имею в виду вообще – чего?
Лева знал, что таким вопросом он ставит ее в тупик. Он прекрасно осознавал, что желание участвовать в судьбе сына гениального отца для матери его было определяющим. Но также он понимал и то, что места для такого материнского участия оставалось у нее с годами все меньше и меньше. Как мог, он пытался лавировать между членами семьи, соединяя или по необходимости разводя группировки противника по разные стороны фронта, даже если воевать никто не собирался. Просто в определенные моменты интуиция Левина и получаемый опыт мирного выживания внутри аэропортовской квартиры подсказывал – требуется передых и профилактика.
Мать на Левин вопрос ответом не утруждалась никогда. Да и не смогла бы. Не знала и знать не хотела – это совершенно не входило в ее планы. Процесс был значительно важнее результата, но и его хватало ненадолго. В перерывах между столкновениями Любовь Львовна старательно перепрятывала небольшую коробку с камешками, проявляя каждый раз чудеса изобретательности. Затем она записывала на специальной бумажке местоположение схороненного в очередной раз наследства, которую, в свою очередь, хранила в одном из трех мест, о которых помнила всегда. Даже иногда, точно зная, где оставила бумажку в прошлый раз, она проверяла на всякий случай два предыдущих места, чтобы быть абсолютно уверенной – изобретенная ею система сбоя не дает. В дни таких проверок настроение ее заметно улучшалось, и тогда Люба Маленькая, прекрасно чувствовавшая настроение зловредной бабки Дурново, разыгрывала свой очередной спектакль.
– Любовь Львовна… – Девочка смотрела на нее честными преданными глазами, и далее следовал вопрос: – Вы не помните, правду в школе говорят, что катет, лежащий против угла в 30 градусов, вдвое меньше биссектрисы?
Любовь Львовна неопределенно хмыкала:
– Ну конечно правда, Любовь. Ты что, сама не знаешь разве?
– А в учебнике геометрии написано, что – гипотенузы. Меньше вдвое… – Люба Маленькая продолжала смотреть на нее тем же уважительным взглядом, с каким и подкатила с самого начала. – И математичка тоже говорит, что – гипотенузы.
Бабушка слегка терялась, победительные нотки ослабевали, но к этому испытательному моменту позиции ее были еще крепки:
– А кто же тогда говорит про это в вашей школе? – переспрашивала Любовь Львовна немного озадаченная, но совершенно не чувствуя подвоха.
– Да Мишка Раков, он в соседнем классе учится, двоечник вечный. Дурак. Правда, Любовь Львовна, дурак? – Девочка завершала испытания, невинно пару раз хлопала длинными ресничками и, вперившись в бабаню, ждала ответа. Любой из вариантов ее бы вполне устроил. В ход шла также ботаника с женскими пестиками вместо мужских тычинок, физика с французом Исааком Ньютоном – потомком эфиопских царей, география с первооткрывателем арктической Атлантики Мадагаскаром и другие нужные в семье науки.
Поразительно было, что при всей своей житейской изворотливой хитрости и скандальном нутре хозяйка дома каждый раз покупалась на примитивную девчачью придумку, не выстраивая из фактов легкого по отношению к собственной персоне издевательства малолетки какой-либо причинно-следственной связи. Люба Маленькая, не получив ожидаемой баба-Любиной трясучки, равно как и прочих видов удовлетворения от свежей провокации, была недовольна и уходила к себе, оставляя непрошибаемую бабку один на один с неподдельным возмущением по вновь возникшему поводу.
Первая хлопота с Любой Маленькой возникла, когда ей исполнилось тринадцать. Сама хлопота была даже не с ней самой, а скорее с Левой. Дело было утром, в воскресенье. Девочка торчала в ванной уже час, рассматривая начинающуюся красоту, когда Люба включила телевизор и крикнула в направлении дочери:
– Клуб кинопутеше-е-е-стви-и-и-й, Ма-лень-кая-я-я!