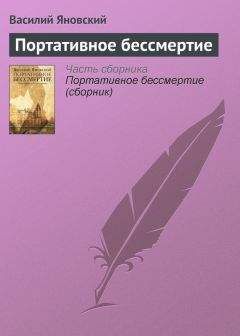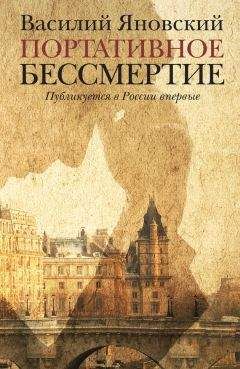«Я буду работать, – четко, уже с того берега, поясняет Жан. – Большую, настоящую работу. И молчать. Это очень хорошо – работать и молчать. А потом вернусь. Ты веришь, значит, так и будет. Для развлечения я выдрессирую в брусе орангутанга: научу его лакать вино и не соглашаться! – и, улыбнувшись, тихо продолжал: – Высоко на горе, в гроте, на корточках, мы с ним будем прислушиваться к шуму времени. Оттуда, снизу, ветер заносит плач юных и смех седых. Наше молчание безгранично, но вдруг Бам-Бук (это его имя) произнесет глубокомысленно: “Ты проиграл, слышишь! Ты проиграл!..” (он очень любознателен и не расстается с книгами). “Бам-Бук, – отвечу я, – ты забыл, что где двое или трое, там и Он, разве в этом нет какой-то победы: быть может, Он и с нами, в гроте, сейчас”. – “Ты проиграл! – повторит Бам-Бук (как все убежденные существа, он с трудом воспринимает чужие мысли), а затем всполошится: – Я не хочу! – крикнет. – Слышишь, уходи. Я не хочу этой предательской петли на шее!” А я с улыбкой слушаю эту знакомую, гневную речь. Снова тишина. Только хворостинка осторожно хрустнет под чьей-то мягкой лапою, а тени леса всё уплотняются. “Бам-Бук, скажу я наконец, – а ведь Он обещал всякому, кто постучится, отворить дверь”. – “В конце концов, ты здесь хозяин, – решит, насупившись, Бам-Бук. – Делай как знаешь…” Тогда я наполняю стаканы вином, преломляю хлеб; мы чокаемся и отпиваем. “Бам-Бук, – говорю я снова, – Бам-Бук, смотри, кто-то отпил из третьего стакана”. Бам-Бук охнет, весь затрясется, и горячие, тяжелые слезы брызнут из-под его красных век мне на руку. Он долго будет райски всхлипывать, неумело сморкаясь в цветной платок, потом (мысли с трудом формируются под его лобной костью) недовольно огрызнется: “Смеешься, пьяный обманщик, ты сам отпил из стакана”… “Бам-Бук, – рассвирепею я, – как ты смеешь, паршивый чорт! Вот мы сидим близко, почти касаемся друг друга, а расстояние между нами едва измеряют световыми годами; ты видишь, червячок ползет у тебя на груди, осязаешь ли ты чудесную вечность?” В ответ Бам-Бук только презрительно шевельнет обрубком хвоста: он сам просил его укоротить, потребовав, однако, чтобы ему оставили хоть с полвершка – таков обычай. Он щеголь, носит белый, пикейный жилет и собирается жениться, потому что нехорошо, когда в доме нет женщины. Вдруг наше внимание привлечет гул мотора над заливом: то в ночь и в океан уходит неведомая душа. Задрав головы, мы долго смотрим вслед – пока одинокая птица не растает в багряном киселе заката над стеною вод. “Он не долетит, – заметит наконец Бам-Бук, лесным, древним взглядом читая в неведомом. – Он не вернется…” Я встаю и отвешиваю ему звонкую оплеуху. Он бьет меня кулаком в челюсть, как я его научил, но благодаря сидячему положению удар выходит смазанный. Мы берем друг друга в тиски и падаем на тропическую почву в сладостном оргазме убийства. Мне удается его схватить за воротник пикейного жилета, как, помнишь, на джиу-джитсу: руки накрест. Ужасная шея с минуту пучится, силится противоустоять, но, сдавленная рычагом, щипцами локтей, она вынуждена сдаться – испускает хрип, замирает. “Душа моя, Бам-Бук, Бам-Бук, – шепчу я, заливаясь слезами, – образумься, мне надо тебя любить, чтобы существовать, хочешь, я полижу твой хвостик. А, гадина, бабник, я тебя когда-нибудь задушу собственными руками…”»
«Жан, – кричу я. – Не души его, не надо! Таких обезьян не бывает». «Ты думаешь? – наивно, с простоватой, детскою надеждой осведомляется Жан и смолкает. А через некоторое время уже другим голосом: – У нас еще сегодня собрание. Пора, пора» (что звучало как: туру, туру), – и мы отправляемся. Мы ехали до Poissonière [8] , там сворачивали на rue Chabrol [9] и проходили, нагруженные чемоданами, вдоль одетых толстой броней, непроницаемых стен консьержкиной ложи. Консьержка нас презирала, люто ненавидела, считала нищими, вредными злоумышленниками; вражда ее была глубокая, допотопная: почти случайным отражением являлись денежные разногласия.
В виде чаевых мы давали общепринятую сумму, она же претендовала на большее, утверждая, что у нас коммерческое предприятие; а Жан отказывал, не дорожа родственными отношениями, основанными на подкупе. Когда муж ушел в отставку (из полиции: с пенсией), – нам сообщили что он лишился службы. Это им дало возможность с удвоенным рвением возобновить поход: муж, располагая теперь досугом, поднимался к нам, пользуясь любым предлогом. Малого роста, тяжелый, свинцовый, с водянистыми щеками, а на них редкая, серебряная щетинка. От повышенного давления крови у него образовалась особого рода проекция: ему чудилось, что легко можно разорвать на части все окружающее. Но, полагая, что дело женское – открытый, лобовой удар, а мужское – маневр, он неизменно, с разными приправами, сообщал нам о кровных связях с полицией и даже с гильотиной. «Друг мой, – предупредил его однажды Жан, не выдержав. – Образумьтесь. Перед смертью вам станет очень худо. Кровавая пена закапает с губ. Позовут меня. И вам станет лучше». Раз в неделю они колдовали – с тряпкой и щеткою; муж копался у крана в углу мощенного торцами [10] дворика. Если случалось нам тогда проходить, консьержка уязвленно жаловалась: « Oh, vous ne respectez pas mon sexe – о, вы не щадите моего пола…» – и так как в это время она возилась, дебелая, с полом, то получалась странная игра слов. Следовало либо уступить, либо пожаловаться хозяину, присовокупив описание неопрятной лестницы. «Нет, – говорил Жан, – нет! – характерно поводя упрямым лбом. – Нельзя сдаваться. Я их возьму! Они нас полюбят!» И судорожно щелкал пальцами над землею, как делают, когда манят собак, заставляя их подпрыгивать (вдруг поднимают руку выше, отчего пес, уже достигнув положенного ему предела, еще раз, через силу, ножницами, плавающе перебирает лапами и взвивается на лишнее, чудесное, дарованное деление). Обычно супружеская пара сидела у своих тусклых окон (она – в коридор; он – во двор). И стоило любому некрепко стоящему на земле: музыканту, нищему, разносчику, комиссионеру… переступить через порог, как его брали корчи под перекрестным огнем их глаз. Мы медленно прошли мимо ложи, пересекли «лучистый» дворик и молча уже поднимались наверх, когда Жана вдруг всего передернуло. «Нет, – простонал он, – не могу больше. Видит Бог, бесполезно!» – и я испугался его крика, сердце застыло, похолодело, предчувствуя грядущие отплытия, ветры, кораблекрушения и одиночество (а так легко было, пока на капитанском мостике Жан Дут). «Жан, Жан!» – начал я умоляюще. «Будет лучше! – прервал Жан. – Год, два. Бог мне поможет! – он остановился, ища адекватных слов, светящийся и неумолимый. – Я вернусь!» – закончил он улыбаясь, и сердце отошло, как всегда, поверило ему, угомонилось. «Жан, – позвал я благодарно. – Прошу тебя, ты владеешь испанским языком: я приютил беглецов, надо объясниться». «Испанцы? У Вира в клинике? – переспросил он, почему-то очень внимательно меня рассматривая. – Разумеется. Если хочешь. Превосходно. А теперь: туру, туру!» (снова рывком). В приемной его ждали пациенты. Студент-медик Дингваль, мулат с Ямайки, чемпион катча [11] , сверкающий, в белом, с белой, кроткой улыбкою, изнеможенно записывал, распределял пришельцев: к Жану направлялись не только с язвою желудка или невралгией, а по самым разнообразным душевным, путаным и семейным делам, видя в нем старшего, учителя, друга. Дингвалю, вероятно, легче было положить на лопатки восьмидесятикилограммового атлета, чем упорядочить, утрясти весь этот людской матерьял. Медицина Жана Дута – это сплав всех ее партий: левых и правых, революционных и консервативных, гипермодернистических и античных, брутальных и умеренных, европейских и азиатских; разные школы: французская, немецкая, американская, русская (оккультные и экзотерические) – противоречиво соединялись в одно дышащее целое благодаря его личному дарованию. Он исходил из концепции, что болезнь есть отдушина, клапан организма, его биологический, единственный, лучший выход из создавшегося положения: спасительная катастрофа. Он часто повторял: «Если б вы не захворали, вы бы умерли»; а умирающим: «Смерть вас избавляет, вероятно, от чего-то совсем неописуемого, страшного». Мы учились по-новому расставлять вещи, часто внешне переворачивая их вверх ногами, меняя знаки на обратные (как в алгебраической фразе, где скобки). «У вас замедленный обмен веществ, трудно двигаться, говорить, от получасовой шахматной партии сердцебиение, мигрень, понос. Значит, только отказавшись от этого, ваш организм, в настоящем положении, может еще свести концы с концами: забегите вперед, опередите боль, слабость (спасительную узду, тормоз), и тогда обойдется без них. Пока не осознаете глубокого смысла вашей болезни, исцеления не будет!» Жан придавал огромное значение молчанию, прописывая целому ряду индивидуумов трехмесячную ванну молчания, ежедневный душ тишины. Недостаточно смолкнуть: вокруг чего будут вертеться мысли? Надо указать, подробно перечислить эмоции, которые разъедают ткань жизни, подобно кислотам: а в них плавает, захлебывается человек десятилетиями. Но избавиться от этого совсем не легко: тут пригодится нескольконедельный, почти беспрерывный сон. Мы искали подходящий физический труд – каждому по склонностям и симпатиям. Велосипед, речной спорт, мяч давали отличные результаты. Мы имели собственный бассейн для плавания и матрац для джиу-джитсу, где подвизался наш друг-японец, профессор со сложным именем, похожим на Чай. Прыжки в воду (головою вниз) стали могучим средством в новой душевной терапии. Чем меньше субъект был приспособлен к стильному полету вверх тормашками – дрожа и щелкая зубами, – тем сильнее притягивался, уходил в это занятие, внутренно посвящая все помыслы и досуг, цепко, инстинктивно, упрямо выравнивая согнутую (или атрофированную) черту характера: по мере того как это удавалось, он креп, мужал, становился уверенно-спокойным, вежливо-уступчивым и независимым при любых обстоятельствах. В связи с этим Жаном была создана теория так называемого «зеркального образа». По смыслу его построения выходило, что призвание человека не есть то дело, к которому он больше всего способен, а, наоборот (так в зеркале правая рука становится левой), его тянет туда, где он меньше уверен в себе, уделяя последнему – из чувства самосохранения – свои помыслы и время. Например: некий юрист годами изучает законы, иногда помечтает о вечернем бридже и никогда – о лжи или мелком жульничестве (которое он проведет на ходу, вдохновенно). Отсюда следствие: мало способен к наукам, несколько больше к бриджу, а гениален в мошенничестве, хотя и высмеивает, даже презирает эти подвиги. Тем и характерен гений, что, бессознательно ощущая свою мощь, он постепенно становится равнодушным к ее судьбе, часто сам ведет подкоп под себя, и наконец – отвернется к другому («зеркальному образу»), откажется (как большие писатели от своих книг, когда плотва трясется еще над любым собственным плеском). Парашютисты-любители не бросались бы так остервенело с аэропланов, если бы знали (до последней уверенности), что выдержат и на сей раз: не отступятся, осилят; счастье не изменит (распахнется вовремя крыло). Скульптор лепит фигуру потому, что не видит ее еще – совсем как надо, как хочешь! Иначе он бы ее не начинал (а жаль!). Только из сопротивления матерьяла, неуверенности, отчаяния и сомнения рождается мир. Призвание – беспокойная неуверенность человека в себе, именно на данном поприще, – признание в слабости. «Разве случайно в России, империи Достоевского, нашлось так много личностей, всё не ручающихся за себя (до предельного мига), желающих проверить еще раз, попробовать – броситься с парашютом вниз головою. Таким путем истребится достоевщина!» – учил Жан Дут.