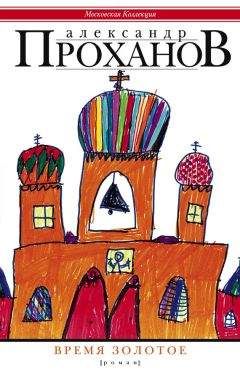Танк качнул пушкой, вылез на бетонку, прямую белую ленту, окруженную сосняком. Всхрапнул и ринулся, свирепо и мощно, с неистовой силон, превращаясь в летящую гору брони. Бекетов почувствовал, как резанул его блеском воздух, как брызнули солнечно слезы, как закружилась колючая пыль. Танк рвал гусеницами бетон. Пушка, как громадный палец, указывала вперед. Танк мчался, хрипя и звеня. Бекетов качался в люке, чувствуя колыхание брони, словно танк вот-вот оторвется от бетонки и взлетит в бледную синь.
И внезапно – больная и странная мысль. Неужели это он, Бекетов, несется в танке, ударяясь плечом о броню? Он, которому мама надевала на голову веночек ромашек? Он, который боялся пчелы, залетевшей в оранжевый цветок тыквы? И тот восхитительный майский вечер, когда летали жуки, расцветала сирень и мама внесла на веранду самовар с душистым дымком, роняющий на поднос угольки. И внезапно вошел отец, загорелый, прилетевший из дальних стран, и они с мамой кинулись к нему, а он раскрывал узорную жестяную коробку с черным хрустящим чаем. Неужели все это было? Девушка из соседнего дома, с которой ходили в театр, а потом целовались в случайном дворе, и он впервые касался женской груди, сжимая губами маленький теплый сосок… И похороны убитых солдат, надрывная медь оркестра, и он шагал по еловым веткам, и видел, как торчит из гроба голубоватый колючий нос… И то упоение, с которым читал стихи, каждый раз замирая, когда приближалась строфа: «Это Млечный Путь расцвел нежданно садом ослепительных планет»… И тот холодный осенний дождь, падавший на могилу отца и матери, и он держал в руках букет красных роз, не решаясь положить на землю… И та голубая спальня с зеркалами и тихой музыкой, приторный запах духов, женщина с шелковистым телом, и близко от глаз мерцал в мочке уха бриллиант. Неужели это он, Бекетов, несется в танке, пролетая еще один крохотный отрезок жизни, дарованной ему от рождения до смерти для какой-то таинственной, неразгаданной цели?
Эти мысли были размыты, как мелькающие в метели сосны. Породили чувство абсурда, необъяснимости бытия.
Танк соскользнул с бетонки и ухнул в ледяное болото. Черный взрыв грязи, обломки льда, гнилая кипящая рытвина. Бекетова швырнуло вверх, и он вцепился в стальную крышку, чтобы не улететь в эту темную топь, не сгинуть в гнилых проломах. Грязь хлестнула по лицу, губы глотнули сероводородную вонь. Танк переваливался с боку на бок, ломал лед, выдавливал коричневые пузыри, подминал тощие болотные сосны. Бекетов бился о железо, и в нем возникало ожесточение. Он сам был подобен танку, который шел через болото русской смуты. Увязал в трясине демонстраций и митингов, в придворных интригах и заговорах, в тупости временщиков и подлости предателей. Он один, надрываясь, тащил на буксире неповоротливую махину государства, у которой заглох мотор, сбежал экипаж, ослабел командир. Хрипя, он давил на газ, будил пинками командира. Молил Господа, чтобы выдержал трос. Чтобы танк дотянул до края болота. Чтобы гусеницы схватили твердую землю. Чтобы у махины завелся мотор. Чтобы очнулся командир. Чтобы вернулся разбежавшийся экипаж. И тогда взыграет вся могучая армада государства, неудержимо, «гремя огнем, сверкая блеском стали», устремится в прорыв.
Танк выдрался из болота, отекая липкой жижей. Покатил в снежных холмах, взлетая на сияющие вершины, погружаясь в тенистые овраги. Нависал над кручей, и казалось, сейчас перевернется и, тяжко грохая, повалится вниз. Бекетов вжимался в люк, чувствуя плечом острую кромку. Танк задирал к небу пушку, карабкался, как жук, на отвесный склон. И Бекетов впивался в броню, ожидая, что танк станет заваливаться, упадет на спину, беспомощно хватая гусеницами небо.
Он отдавал себя в руки Господа. Каялся в совершенных грехах в этом стальном алтаре. Грехи всплывали в памяти среди адской гонки.
Друг детства уходил на афганскую войну, его провожал весь дом. Плакали мать и отец, молодая жена клялась в вечной любви. Друг, хмельной, с вещевым мешком, махал из отъезжавшего автобуса. Возвращались теплой ночью через парк, и жена друга вдруг стала его целовать, повлекла в чащу парка, и на влажной траве он расстегивал непослушное платье, кусал ее губы. Вставая, не смотрел на нее, испытывал гадливость к ней и к себе.
На даче проходил мимо дождевой бочки, и в темной воде, в мелком трепете, бился мотылек, пытаясь взлететь. Прошел мимо, не вычерпал страдальца из воды, не сохранил ему жизнь. Возвращаясь обратно, видел: мотылек безжизненно лежит на водяном черном круге.
Работая с Чегодановым, помогал ему в деликатных делах. Банкротил банки, возвращал государству заводы и прииски, нефтяные компании и морские порты. Молодой банкир, придя на прием, умолял не губить, сохранить его банк, обещал отступные. Бросился на колени, пытался целовать его руки. Бекетов не внял мольбам, отказался ему помогать и прочел в газетах о самоубийстве банкира.
Лукавство и ложь, на которые шел теперь, желая помочь Чегоданову. Обман Градобоева, вероломные визиты к Мумакину, Лангустову, Шахесу. Одурманенный Коростылев, обольщенная Паола Ягайло. И все во имя России, во имя Государства Российского, но при этом тончайшая фальшь, которую не скрыть сусальной позолотой, исклеванной птицами.
Все это сумбурно вспоминал Бекетов, среди кувырков и толчков, каждый из которых был камнем преткновения, греховным поступком на его пути.
Танк валился с боку на бок, свирепо размахивал пушкой. Бекетов бился о броню, боясь расквасить лицо. И Елена, ее тонкая переносица с каплей дождя, ее зеленые глаза, в которых играет солнце, ее серые брови, к которым пристало крохотное пушистое семечко. Она поднимает ногу, переступая край перламутровой ванны. Сгиб ее колена, шелестящий душ на ее плечах. Ветер колышет занавеску, за которой весенний Париж, цветущий каштан.
Лицо Елены, возникшее среди свистопляски холмов и рычания танка, вызвало в нем нестерпимую боль и вину. Горькое раскаяние, заглушить которое не смог удар о железо, и там, где расходилась боль от удара, оставалась вина и раскаяние. Он был бесчестным игроком, пользовался ее наивным доверием, ее любовью, делая игрушкой в своих лукавых затеях. И от этого сами затеи становились лживой игрой.
Танк пошел вниз, набирая скорость, вонзая пушку в сверкание снегов. Впереди у подножия холма разверзался овраг, тенистый, полный синего снега. Танк мчался к оврагу, в свисте ветра, и Бекетов ждал, когда машина ухнет в глубину оврага и погаснут вместе с солнцем его грехи и раскаяние, его гордыня и незавершенные замыслы. Вся его странная, из любви и ненависти, жизнь.
Танк оттолкнулся от земли, полетел невесомо, окруженный солнечной пылью, и вонзился в противоположную кромку оврага. Мягко спланировал и помчался в волнистых снегах.
У песчаного откоса танк застыл на мгновение, а потом стал кружиться на месте, ввинчиваясь в землю, словно закручивал громадную гайку. Бекетов ошалело вращался, крутились холмы, песчаные откосы, далекий лес, и снова холмы и откосы. Казалось, Бекетов попал в грохочущий вихрь, в чудовищную круговерть времен, где нет ни конца, ни начала, а только жуткая карусель, из которой ему не спастись. Он перестал думать, перестал сопротивляться ударам, а слепо смотрел полными слез глазами, чувствуя, как стальная фреза выпиливает под ним землю и он готов провалиться в преисподнюю.
Внезапно танк замер. Стоял, окутанный испариной. Из люка смотрело на Бекетова молодое лицо испытателя, перечеркнутое длинной болотной брызгой.
– Ну хватит! – перекрикивал он храп мотора. – Пора домой.
Из танка Бекетов вылез разбитый, земля под ним ходила, он продолжал раскачиваться. С трудом переоделся. Комфортабельный джип унес его с танкодрома в город, к заводскому Дворцу культуры. Под колоннами его встретил директор, серьезно и озабоченно оглядывая, желая убедиться, что гость уцелел после рискованной прогулки.
Дворец заводу подарил Сталин, в благодарность за тысячи победоносных Т-34. Кругом были уральские самоцветы, дорогие породы дерева, венецианское стекло, расписные плафоны. В гостиной был накрыт стол, где ждали Бекетова знакомые инженеры.
Официант, в черном смокинге, с галстуком-бабочкой, разлил в хрустальные рюмки водку.
Директор встал, держа рюмку:
– Андрей Алексеевич, пока вы отсутствовали, мы посовещались, связались с Уральским союзом оборонных предприятий и решили поддержать Федора Федоровича Чегоданова. С ним мы связываем наше будущее. Предлагаю выпить за его здоровье.
Все поднялись, чокались, роняя блестящие капли. Бекетов залпом выпил огненную рюмку.
Елена торопилась на Пушкинскую площадь, где начиналось действо, к которому она была причастна. Либеральные писатели решили выйти на московский бульвар и провести встречу с читателями. Раздаривать книги с автографами, декламировать стихи, выразить всяческие симпатии оппозиционеру Градобоеву. Высмеять кремлевскую знать. В своей теплой шубке, повязанная цветастым платком, в коротких сапожках, с румяными от мороза щеками, Елена была похожа на московскую боярышню с картины Кустодиева.