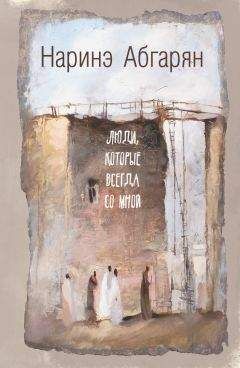Ознакомительная версия.
Когда Вера пришла ее проведать, она лежала на тахте, накинув на плечи косынку. На шаги невестки оборачиваться не стала, только сделала успокаивающий жест рукой – все хорошо. Вера оставила на прикроватной тумбочке стакан со сладким чаем, погладила прасвекровь по руке.
– Бабушка Тамар, хоть чаю попейте. Совсем ничего не ели.
– Спасибо, Верушка, обязательно выпью. А ты иди, милая, не волнуйся за меня. Я полежу немного, отдохну. Потом приду к вам.
– Вы, главное, не расстраивайтесь, бабушка Тамар.
– Хорошо, дочка, не буду.
После ухода Веры она еще какое-то время лежала, тихо шепча себе под нос. Потом села, выпрямилась, сложила на коленях руки.
– У меня живое сердце, не каменное. Как я могу не расстраиваться? Я даже не знаю, что́ бы со мной стало, если бы она отказалась от меня. – Тамар уставилась на портрет мужа, помолчала какое-то время, словно давая ему возможность ответить. Не дождавшись ответа, поднялась, вытащила из кармана фартука мятый бумажный кулечек, отсыпала несколько кусочков ладана в чашу, ладан схватился, задышал сладковатым дымом.
Тамар снова села на тахту – вполуоборот, так, чтобы видеть портрет мужа.
– Вот скажи мне, Амаяк, ты бы смог полюбить чужих детей? А я тебе вот что скажу, Амаяк. Полюбить чужих детей не просто нелегко, а почти невозможно. Но ты поначалу ничего об этом не знаешь. Просто крутишься как белка в колесе, лишь бы все успеть. Дети ведь маленькие, нуждаются в помощи. У этого сыпь, у той температура. Постирай-погладь-убери-выкупай-накорми-утри сопли. И так изо дня в день. Каждый день. Сначала ты живешь словно в горячке, и одно-единственное, что тебя беспокоит – это страх, что не сладишь с ними, маленькими и беспомощными. Но потом, когда ты потихоньку начинаешь справляться, приходит другой страх, сильнее первого. Страх того, что нет у тебя впереди ничего, кроме рабской зависимости от этих детей. Которые не могут принять тебя и которых не можешь принять ты. Как тебе объяснить, на что это похоже, Амаяк? Это такое бесконечное черное отчаяние. Это хуже, чем проклятие. Как будто ты попал в преисподнюю, где у тебя отняли все – прошлое, будущее, настоящее. Единственное, что тебе оставили, – бессмысленный каждодневный труд, за который тебя никто никогда не поблагодарит.
Тамар уронила руки на колени, помолчала. Вздохнула. Закрепила косы на затылке шпильками, обвязала голову косынкой. Заправила постель, накинула покрывало – тонкий плед работы Кнарик – алые розы на темно-синем фоне.
– Однажды я совсем отчаялась, – продолжила она разговор с прерванного места. – Пришла к знахарке Забел, стою у нее в дверях, плачу. Забел скрестила руки на груди, загородила мне проход, ждет, пока я выплачусь. День был холодный, ветреный, и мы обе зябли. Но пройти в дом она мне не дала. Потом, когда я выплакалась, она спросила, чего я хочу. А мне от нее ничего не надо, мне хочется лечь на пороге ее дома и умереть. Она велела мне ждать, ушла в комнату, вернулась с бутылкой настойки. Говорит – принимай три раза в день по одной ложке. Запивай теплым молоком. Я побоялась спросить, от чего эта настойка, молча взяла ее, спрятала в рукаве, чтобы никто не видел, принесла домой. Налила в кружку молока, хотела выпить – а тут со двора такой крик пошел! Я бросилась, не разбирая дороги, споткнулась о порог, упала, ударилась головой. Выбегаю во двор – маленький Жорик лежит на земле, корчится от боли – свалился с поленницы, сломал руку. Ты на лесопилке, дети напуганы, что делать – не знаю. Схватила его в охапку и побежала к Забел. Та напоила его чем-то успокаивающим, руку перевязала так, чтобы сломанная кость не двигалась. Вызвала соседа, тот на телеге отвез нас в больницу. Жорику наложили гипс, оставили на ночь под наблюдением медсестры. Я подождала, пока он уснет, вернулась домой, усадила детей обедать, а сама бегом отнесла Забел настойку. Говорю – забирай ее обратно, она мне только несчастье принесла. Она мне в ответ – я так и знала, что ты обратно принесешь. И захлопнула у меня перед носом дверь.
Тамар походила по комнате, чтобы успокоиться. Открыла деревянный сундук, бесцельно порылась в стопках аккуратно выглаженного постельного белья, опустила крышку. Встала перед портретом мужа, скрестила на груди руки.
– И ты знаешь, Амаяк, с того дня все потихоньку стало налаживаться. Не сразу, конечно, но стало. Я понемногу успокоилась, а главное – смирилась со своей участью. А однажды, очень хорошо помню этот день – был февраль, второе число, проснулась я рано, раньше петухов, поворочалась в постели, но сон все не шел. Раз не спалось, решила встать, испечь сали[31]. Замесила тесто, растопила печку, испекла лепешки. Даже самовар поставила, все равно время терпело. Как только самовар закипел, пошла будить тебя на работу. Покормила-выпроводила, испекла новую порцию сали, пошла детей к завтраку поднимать. Захожу в комнату – а они спят вповалку, тут Жорик с Сергеем, там Шушик с Кнарик. Тата к тому времени уже замуж вышла, Петроса родила, они с Овакимом в Чинари жили, в школе преподавали. Жорику было семь лет, Сергею – десять. Шушик уже поступила в институт, отпросилась с учебы, приехала домой подлечиться – не унимался кашель. А Кнарик как раз стукнуло пятнадцать – большая уже девочка, совсем барышня. И когда я зашла к ним в комнату, там такая стояла тишина – словно ангелы разлили целое море безмятежности, и единственное, что было слышно, – это доверчивое дыхание детей. И я постояла над ними, тихими и спящими, погладила каждого по голове и сказала себе – это мои дети. И ни одна ниточка моей души не запротивилась тому, что я сказала, Амаяк. Потому что эти дети давно уже стали моими.
Тамар умолкла. Подошла к портрету мужа, поднялась на цыпочки, погладила его по лицу.
– Но страх быть отвергнутой, Амаяк, так и остался жить в моем сердце. Ты не думай, это не страх одиночества и дурацкого стакана воды, который некому будет подать. Видишь, Верушка моя золотая чаю мне принесла. Это страх перед внуками и правнуками – вдруг кто-то из них, узнав, что я им не родная, отвернется от меня? Они ведь маленькие и глупенькие, они ничего не знают. А у меня так мало осталось времени, чтобы доказать, как я их люблю!
Тамар расплакалась. Вытащила из-под манжеты платья платок, утерла слезы. Вышла к шушабанду, распахнула окно, впустил в дом холодный декабрьский ветер. Туман с макушки Хали-кара медленно спускался вниз, укутывая старый Берд с его каменными домами, голыми садами и пустым дворам в непроницаемый ватный кокон. Небо, обернувшись туманом, стелилось низко над землей и безмолвно внимало слезам Тамар.
О крыльяхВот эта подернутая инеем мушмула – мякоть кисло-сладкая, совсем чуть – терпкая, подняться на цыпочки, сорвать горсть обмороженных, припорошенных снегом плодов и – есть, аккуратно выплевывая косточки на ладошку, – косточки нельзя выкидывать, нани заругает. Вечером пошел снег, тот, настоящий, которого у нас в городке очень ждут, нани обрадовалась, посмотри, зарядил мелкими хлопьями, значит, будет долго идти, какая красота, столько лет живу, а привыкнуть к ней не могу. Чудны дела твои, Господи, чудны и прекрасны.
Трещит дровяная печка, пыхтит самовар – медный, толстобокий. Такие самовары есть в каждом бердском доме – большие, сердитые, стоят, подбоченившись, словно сварливые деревенские бабы, дышат жаром. Нани говорит, что пить чай на русский манер нас на-учили молокане. Они живут на той стороне заваленного снегом перевала, и теперь до весны до них не долететь и не докричаться. Чем они помешали русскому царю, качает головой нани, люди как люди, ну, может, молятся они немного иначе, чем русский царь. Но разве это причина высылать их с плодородных земель в наши каменистые края? Люди, эли, вздыхает нани. Собака или волк – какая разница? Живые существа.
Снег идет всю ночь и еще целый день, ветер играет с ним, как умеет, – швыряет горстями в окно, рисует крылом на белом полотне рыхлые борозды, а потом торопливо их стирает, кружит вокруг уличных фонарей праздничным конфетти. Воздух пахнет так, словно им никто никогда не дышал – морозно-хрупким, первородным.
Я умею отличать воздух на запах и на вкус. Весной он пахнет холодным родником, проснувшимся лесом, цветущей яблоней, а еще – молодой крапивой. Летом воздух пахнет нагретыми на солнце помидорами, пчелиным жужжанием, раскаленной чердачной крышей и зацветшими кустиками просвирняка. Осенью – шершавым персиковым соком, свежевыпеченным домашним хлебом и сладковатым духом печеных каштанов. И еще – пряным и соленым.
А зимой воздух пахнет так, что не хочется взрослеть.
Вот эта подернутая инеем мушмула, зеленый кипарис да синяя россыпь на макушке терновника – и есть все, что осталось от вчерашнего дня. Остальное засыпало снегом по самую макушку, приглушило-убаюкало, запутало в марлевом коконе молочного морока. Сквозь падающие хлопья снега едва различаешь бок соседского дома – неприступный, хмурый. Растерянный по зиме.
Ознакомительная версия.