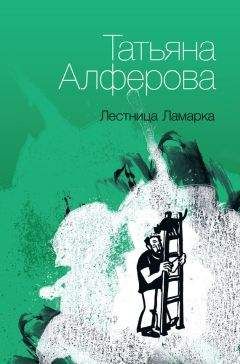Ознакомительная версия.
Солнце умирало и показывалось все реже. Декабрь никак не мог перешагнуть границу самых долгих ночей, изматывая себя и город неуместными дождями, приготовляя пространство для простуды и гриппа. Темнота, особенно заметная в отсутствие снега, наваливалась среди дня, размазывала вокруг себя все, что могла, и вмешивалась в отношения, стараясь уничтожить все, впадая в бешенство от неуязвимости равнодушия. Темнота как будто знала, что ничто из однажды возникшего не исчезает, и не могла с этим смириться. Как бы люди ни стремились поссориться и расстаться сами по себе, без ее вмешательства, отношения не исчезают, они длятся в пространстве после разлуки и после смерти, изменяясь, обращаясь в прямо противоположные, умаляясь, заслоняясь другими, продолжая вечный спор, потому что согласие – это тождество, а даже один человек не бывает тождествен сам себе в зависимости от настроения, погоды или дня недели.
* * *
По дороге на работу Сергей с некоторой печалью отметил, что маршрут от Зоиной квартиры до Петергофа уже становится для него привычным. Не надо задумываться, куда свернуть в метро на переходе станции "Технологическая", а идти и идти в толпе полусонных, но уже рассерженных пассажиров, пока не вынесет тебя наверх на Балтийском вокзале, а там снова толпа к электричке, и так до второго вагона, который без компрессора и меньше гремит, сесть на третью справа скамейку по ходу поезда и дремать, пока не объявят Старый Петергоф. Еще Сергей вяло думал о Зоиной манере никогда не высказываться прямо, так что приходилось угадывать, а что же она на самом деле хочет сказать, и что, несмотря на эту досадную манеру, ему с ней хорошо и, наверное, это и есть счастье, а разглядеть его мешает пасмурная погода и бесснежная зима.
Мальчик, идущий по проходу между скамейками, нечаянно толкнул Сергея, отвлек. Мальчик в мятых брючках, рваной нечистой куртке, собирающий бутылки по вагону в половине седьмого утра, вызывал раздражение и жалость пассажиров одновременно. Он деловито заглядывал под сиденья, не обращая внимания на людей, а лишь на бутылки, и если видел мужчину, пьющего пиво, останавливался чуть позади, чтобы не сердить, не провоцировать на задержку в освобождении желанной тары, беззастенчиво толкая остальных, не имеющих для него самостоятельной ценности людей. Шапки у ребенка не было, и короткие, неровно остриженные волосы делали и без того тонкую шею совсем беззащитной. Дойдя до начала вагона, он повернул обратно, Сергею показалось, что мальчик так и живет в электричке, бесконечно перемещаясь взад-вперед. Лицо мальчика не удерживалось в памяти, как бы не прочитывалось, и, выйдя на перрон, Сергей мгновенно забыл о нем.
Рабочий день прошел быстро в рассказах о забавных американцах, попершихся в Тюмень бурить скважины. Сослуживцы засыпали Сергея вопросами о "перспективах дальнейшего сотрудничества", мифической северной надбавке, оленях – какие олени в Тюмени? – и прочими глупостями. В перерыве между вопросами и чаепитием Сергей позвонил Зое и договорился на завтра, а сегодня он хотел передохнуть от любого общения. Разумеется, об утреннем мальчике он не вспоминал, пока не вышел из метро на площади Восстания, направляясь к улице Некрасова по свежевымощенному тротуару. Мальчик шел перед ним. Когда он появился, Сергей не заметил. Конечно, это был другой мальчик, просто тоже плохо и бедно одетый, с такими же коротко и неровно остриженными волосами. Но двигался он точно как тот, первый, как будто всегда жил здесь на темной улице и вечно шел от метро к углу Восстания и Некрасова, привычно волоча тяжелую для него сумку, явно с пустыми бутылками, и не смотря по сторонам на соблазнительные витрины. Сергей прибавил шагу, норовя заглянуть мальчику в лицо, но как ни торопился, догнать маленького сборщика бутылок не удавалось. Расстояние между ними оставалось волшебно неизменным. Нужно идти за ним, и все. Не иначе как малыш послан в качестве проводника, а тот, в электричке, был первым предупреждением. Потому и толкнул Сергея, ведь остальных пассажиров он огибал с поразительной ловкостью. Проводник или посланец обернулся, проверяя, следуют ли за ним, уличный фонарь неожиданно мигнул, так что лицо ребенка осталось неразличимым в темноте. Сергей миновал уже свой поворот, не заметил этого, но мальчик нырнул в подворотню, и Сергей опомнился. Посмеявшись над собственными фантазиями, правда, с некоторым суеверным страхом, он повернул назад, разглядывая встречные окна, прошел один двор-колодец, другой и перед самой своей парадной поднял голову, задержался, силясь разглядеть, что происходит в освещенном окне почти напротив его окон.
Разглядел – и тотчас со всех ног кинулся к себе, к своему окну, не зажигая света, чтобы лучше видеть то чужое, освещенное; дернул занавеску, обрывая кольца на карнизе – поздно, напротив глухая темнота, без единого пятна света, того оранжевого "абажурного" света, который он помнил еще из детства и который только что мягко обрисовывал головку с черными блестящими косами-змейками, сколотыми на затылке. Он разглядел даже серьги, блестевшие одна над другой, по две в каждой мочке, как в последнем сне, или показалось? Побрел к выключателю, наступил на что-то шуршащее, и лампа выхватила из темноты на полу лоскут радужного переливающегося шелка, поясок, оторванный в спешке от легкого многослойного наряда. Он помнил этот шелк, сминаемый нежными пальцами в стремительном порыве освободиться, разоблачить сияющее смуглое тело. И полог мягко вздувался над постелью и опадал, выдыхая. Сергей сел рядом с воплотившимся сном прямо на пол и не думал ни о чем, пока не зазвонил телефон.
* * *
Зоя ни разу не звонила Сергею домой, хотя номер своего телефона он дал ей еще в самом начале. Подсознательно она боялась узнать непоправимое, что-то такое, после чего ее подозрения превратятся в уверенность. С одной стороны, хотелось определенности, но, с другой, она боялась, что определенность уничтожит все. Днем ей звонила Маринка, предлагала зайти, купить продуктов и лекарств, разохалась, услышав простуженный голос подруги. Зоя отказалась, надеясь, что зайдет Сергей, и не желая, чтобы они с Мариной столкнулись после незадавшегося знакомства. Марина догадалась о причине отказа, на этом ее тактичность дала сбой: "Ты можешь его долго прождать, моя дорогая", – и как дважды два объяснила, что никакая, самая беззаветная привязанность и хорошее отношение к человеку не дают нам особых прав на него.
Провалявшись в постели с высокой температурой целый день, Зоя решила, что если привязанность и не дает ей права на ответную привязанность с его стороны, то уж плохое самочувствие чего-то стоит. Когда ближе к вечеру она поняла, что Сергей не появится и не позвонит, хотя телефон стоял так близко, на стуле рядом с постелью, она решилась. И боги горячо поддержали ее.
Сергей повел себя довольно странно, отвечал односложно и не стремился сам поддерживать разговор. У Зои создалось впечатление, что с ним в комнате находится кто-то еще, поэтому он не может говорить свободно. О том, что заболела, Зоя решила не сообщать, сам догадается по голосу. Если захочет. Сергей не догадался. Ему было не до нее, уж это-то Зоя поняла. На просьбу заехать сейчас – не сдержалась все-таки – уклончиво отвечал, что уже поздно, лучше завтра, после работы заедет или встретит ее у выхода из метро. Боги давно нашептывали реплику, Зоя прислушалась и повторила: "Не смею больше задерживать. Боюсь, что твоей жене придется второй раз подогревать ужин", – и повесила трубку. Невозможность высказать все, что хотелось, рассказать свою злость душила ее и проступала испариной. Почему именно с ней так несправедливо поступают, почему так не везет с самого начала; она никогда не жила, как хотелось, не говоря о том, что не жила, как того заслуживала. Но боги не торопились объяснять ей, что это всего лишь жажда подлинной и несбыточной жизни, свойственная всем людям без исключения, а счастье или несчастье здесь ни при чем.
* * *
Глупая и беспомощная Зоина реплика чудесным образом вернула Сергея в реальность. Но перезванивать он не стал, полагая, что надо дать человеку возможность пережить свою злость в одиночку, подумать и успокоиться. И до этого знал, что Зоя ревнует, а виной тому его нежелание рассказывать о себе, но не предполагал, как далеко она забрела. Моментально вспомнилась мать, ее некрасивые романы, собственная Сережина большая обида, отказывающаяся принимать дурную действительность. Детская ревность проявляется легко: теряются дневники, новый портфель и мелкие безделушки с туалетного столика матери, бьются любимые материны чашки и тарелки, любимые ее кактусы заливаются горячим бульоном или чернилами, в конце концов, роняется на пол, а для верности со шкафа, телефон, по которому она разговаривает с дядей Леней. Ревность сопровождала Сережу, как верная собака. С ней он окончил школу, с ней же поступил в институт. В тот год, когда он женился и дал себе слово никогда больше не испытывать ничего похожего и не давать поводов другим, а имелась в виду его молоденькая жена, Сергей жил довольно странно. Он был счастлив, и было очень некогда: зачеты, сессии, первые столкновения с бытом, новая жизнь, бессонные ночи, заполненные разговорами и любовью, куча друзей. И в то же время отсутствие привычного, то есть ревности, тревожило не то чтобы создавало дискомфорт, но… Допустим, ходишь в школу с портфелем изо дня в день, потом в институт с "дипломатом" и тубусом. Пальцы, ладонь привыкают удерживать за продолговатую ручку рвущуюся к земле небольшую силу, килограмма на три. А пойдешь на преддипломную практику "пустой" – не хватает трех килограммов, в казенном коридоре учреждения некуда деть руки, и вид несолидный. Так и начинаешь таскать старенький "дипломат" без всякой надобности.
Ознакомительная версия.