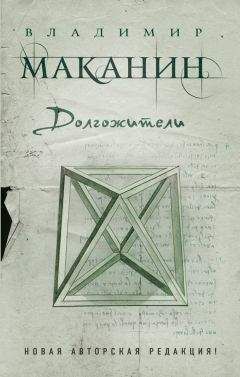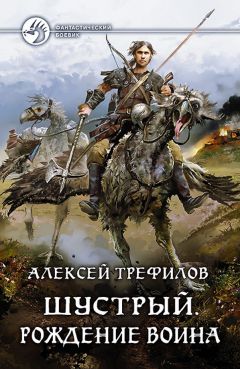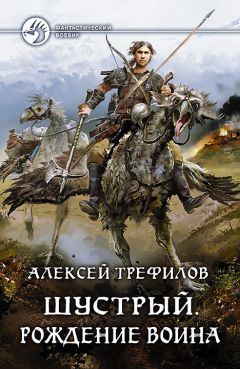Памятливая, она сказала: «Кормите Витю молоком и картошкой», про самих же их не сказала ни слова, и едва ли бабка Матрена предполагала, что голод, мол, не тетка – сами, мол, догадаются и сами возьмут. Тут именно мог быть умысел, и скорее всего ей хотелось, чтобы они именно без спросу взяли еду, притом чужую: бабка Матрена не была из добреньких, она жила своей жизнью и на чужую жизнь не равнялась. Витю, мол, покормите молоком и картошкой, а сами – ешьте что есть, этой-то вот простенькой и понятной добавки в ее словах не было. Недосказала она, а стало быть, горделивые старухи даже и хлеба сами взять не могли.
И старухи не взяли. У них тоже была своя жизнь, и чужой жизнью жить они не умели.
Оставшиеся, они не жаловались, что бабка Матрена их не кормит, они, правда, вздыхали, укоряя ее: они бы, мол, на ее месте не забыли и дали бы ей, бедной, как-то питаться, будь у них эта земля, и эта картошка, и эта корова, и умение за коровой ухаживать. Они не ели, выказывая иное свое умение – умение смиряться не уступая: оттого-то так страшно и пугающе быстро они худели.
Смирение не было полным, а было, так сказать, удельным: отдав, они оставили себе какую-то пядь и на этой пяди жили, оставаясь самими собой, и тут-то и было и таилось, быть может, отличие смирения от покорности, и Ключарев мог уже тогда впитать эту разницу, хотя бы частично.
– Земля – это счастье, – говорила Мари. И тихонько плакала.
Голубая бабушка ей возражала:
– Вздор, милая, – земляное счастье нас ждет через два-три года.
(Вместо отпущенного ей года она, видно, надеялась на два-три.)
– И все равно счастье, – плакала Мари и так некрасиво хлюпала носом.
В голоде Мари переменилась: мигом осунувшаяся, возникла деревянная старушечка, вдруг начавшая твердить, что счастье в крестьянстве и в обрабатывании земли своими руками. Зато за двоих выступала теперь голубая бабушка: она вроде бы еще больше держалась, и чеканила слова, и прямила спину при шаге. (Перемена в ней была меньше, но и меньшая перемена была для глаз мальчика куда заметнее и виднее, чем полное одеревенение Мари.)
И удивительно, как легко переносил он то, что он ел, а они – нет. Он как бы закрывал глаза и открывал, вновь вступая со ставнями в избе в некое отношение, и это не было какой-то там образной или символической игрой. Для взрослого это вполне можно было бы возвести в образ: мальчик открывал глаза, когда ел сам, и закрывал – когда они не ели. Он как бы частил глазами, закрывал-открывал; в итоге же и в смешении возникала некая спокойность жизни, уравновешивающая и себя прощающая. (Каким образом в него, маленького, такое вмещалось и как такое мирилось с его совестью, он до сих пор понять не может, зато сколь многое понимает теперь благодаря той непонятности.)
Еще одно: голубая бабушка говорила «это – наше», а бабушка красная говорила «это – мое», касательно, скажем, хлеба, касательно еды и всего прочего, касательно травы, берез, леса, земли, и мальчику думалось, что разница такая может быть оттого, что бабушка голубая (множественное число) была с Мари, а бабушка Матрена – одна. Лишь с возрастом понял он разницу их отношений и притязаний, хотя уже тогда, в детстве, смутное чувство подсказывало ему о некоем имеющемся тут противоречии, а даже и парадоксе, так как по логике им бы, конечно, следовало говорить обратное.
Бабка Наталья и Мари его кормили, собирая со стола даже и крошки – для него. А жадности к еде уже не было, и, стало быть, неторопящийся, он тем более мог видеть, что старухи сидели около, глотая слюну. Ослабевшие, они впихивали в него кусок за куском, не замечая, что обращаются с ним, будто ему годика три (он и в прямом смысле ел за них – вместо них). «А этот кусочек за меня, Андрей, за бабку Наталью, неужели ты не съешь? Ты меня очень обидишь…» – а он, медлительный, не желал открывать пасть.
– А теперь за Мари – она ведь тебя очень любит…
Мари с запавшими щеками отворачивалась:
– Не люблю я его, если он не ест.
Отварив картошку, они толкли ее прямо в миске с молоком, после чего несли холодно-горячее пюре, картинно воткнув в него большую деревянную ложку. Глотавшие слюну, они сдерживались, и лишь однажды Мари вдруг сказала, нет, мол, сил терпеть голод более, а бабка Наталья строго ее отчитала за недостойную слабость: грассируя, она выдавала пассаж за пассажем, и Мари уже кивала, признавая вину, и каясь, и роняя слезки.
Однако к обеду второго дня старухи стали иссякать: отвлекая друг друга, они стали вспоминать ту и эту войну, ту и эту разруху. Как бы соревнуясь, они рылись во времени, легко и без натуги отыскивая памятные тяжкие дни там или здесь в долгой своей жизни, – им было что вспомнить. «Помнишь ли, как в детстве на Орловщине…» – «Нет, – вдруг оборвала бабка Наталья, – а те дни мы вспоминать не будем. Это сведется к разговору о еде и о твоем любимом малиновом варенье. Я запрещаю тебе!» – «Наташа!» Глаза у Мари заблестели, сухонькие, бесцветные глаза. «Не будем», – сказала бабка Наталья. Мари, обессиленная, легла на лавку, она всхлипывала: «Но почему не вспоминать?.. Мне так хочется вспоминать!»
А маленький Ключарев лежал на печке. Он мало что понимал, но понимал же он, что старухи хотят есть. Закрывший глаза, он старался заснуть, круто поворачиваясь то на левый, то на правый бок.
Мари забылась сном на лавке, а бабка Наталья сидела и вязала, когда он, заснуть не сумевший, слез с печки и вяло подошел к ней. «Бабушка…» – позвал он ее, желая что-то спросить, и тут же забыл – что, так как она, швырнув на лавку вязанье, прижала его с неожиданной силой к себе. «Да, бабушка с тобой, – она повторила, – да, твоя бабушка…» Ему было приятно и мягко у нее на груди, запах бабушкиных духов был остр и нежен, он чуть ли не мурлыкал; когда она сказала: «Сносишь костюмчик и забудешь бабушку – да?» – он стал уверять, что нет: обилием своей любви бабка делала из него младенца трех лет, а он, в свое время любви недополучивший, подыгрывал. Она сказала: «Мне жить недолго, вот и стараюсь, глупая, чтобы в памяти от меня что-то осталось, – прости меня, старую».
Он (лукавый) вроде бы не понимал, из чего она так бьется, однако же понимал: сердце его уже тогда (и, забегая вперед, можно сказать, – надолго) было отдано бабке Матрене; взрослый Ключарев, когда бы и кто бы ни произнес слово бабушка, представлял себе деревеньку, и огород, и речушку, и именно бабку Матрену с ее черными, как бы пороховыми, солдатскими морщинами на лице и на шее; взрослый, он не раздваивался в образе, и нет сомнения, что в ту минуту детства голубая бабушка, вероятно, уже предчувствовала его выбор и знала итог тем особенным знанием, какое дается в старости. Она даже и смирилась с его выбором, – быть может, потому, что считала, что любить бабку Матрену (удерживать ее и в голове и в сердце) мальчику и нужнее, и правильнее, и современнее, и безопаснее в смысле развития – тоже. Она еще и подсмеялась немного в ту давнюю минуту, прижимая и целуя его: «Смешная бабка Наталья, хочет остаться в памяти – да?»
Был ужин, то есть для маленького Ключарева ужин, для них же очередное голодание с видом на еду. Мари уже постанывала. Бабка Наталья зажгла керосиновую лампу, она принесла из погреба молоко, разогрела его, затем взялась за картошку, а Мари, постанывая, лежала на лавке: не поднималась, чтобы не видеть.
Подступала новая ночь (Матрена еще не вернулась) – июньские ночи стали прохладны, и мальчик подолгу лежал на теплой печи, слушая, как мучаются старухи. Говорила Мари, она нет-нет и капала слезами – мы, мол, только что отголодали такую войну!
– …Я ведь, Наташа, прости меня, согласилась поехать с тобой отчасти с умыслом. Дай, думала, на старости лет увижу русскую деревню, притом уральскую, далекую от всех и вся, далекую от споров и войны. И еще, сказать ли, знаешь, что я думала – похожу по улице, что может быть лучше лета в деревне! детство вспомню, тишину и – молока попью!.. Ты знаешь ли, мысль про молоко, про то, как я буду пить молоко из железной кружки после многолетнего голода…
– Ты меня не разжалобишь! – сказала бабка Наталья. – Есть нам не предложили.
– Я же не настаиваю на молоке, Наташа, Наташа!.. Ты меня неверно поняла, – заспешила Мари. – Я же говорю: хлебца-то можно поесть немного?..
– А тебе предложили есть хлеб? – холодно произнесла бабка Наталья.
Мари вновь заплакала.
Он слышал в дреме, как они запели, а когда он свесил голову вниз и глянул, они сидели обнявшись, Мари всхлипывала, и пели скрипучими старушечьими голосами песню, где слова были почти неразличимы:
…да я-я-ааа одета-ааа…
Он засыпал, он посапывал носом, он слышал, как бабка Наталья спросила: «Мы не мешаем тебе спать, милый?..»
Потом сон отступил. И он слышал – Мари опять говорила:
– …Наташа – только не спорь: я надумала, что, если мы не умрем здесь от голода, в нашей жизни еще будет что-то очень замечательное.