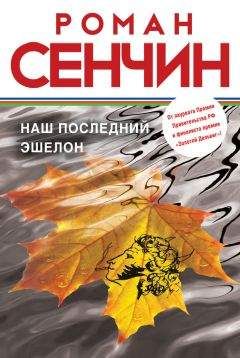Ознакомительная версия.
Я жарю картошку, Серега хозяин, он решил немного прибраться пока. Пришлось идти Юрке.
– Черт, закурить не спросили! – спохватился я.
– Да у него нет, ты что…
К приходу добытчиков стол накрыт: сковорода, вилки, обломки зачерствелого хлеба, рюмашки. Расположиться решили в зале. Все как надо. Помидоры удалось продать за пятнадцать. Купили «Русскую», пачку «Примы» и булку серого.
– Вот это да! Вот это загудим! Давайте, располагайтесь скорей!
Расположились. Налили по первой, выпили, закусили.
– Что с башкой-то случилось?
Витя поморщился, закурил, стал рассказывать:
– Я, когда от вас вчера вышел, на улицу вышел, пройтись. А там цепанул девчонку. Хорошая девчонка такая. Пошли ко мне. Всё путем, она тоже поддатая, веселая, я веселый. Только начали вроде, и тут бах – жена!
– Вы ж с ней в разводе, – удивился Серега.
– Но, в разводе, а живем-то в одной конуре. К тому же на ее тахте. У нее тахта в комнате удобная, ну и… Девчонку на площадку выкинула, мне, этой, для теста, по кумполу вот…
Витя – здоровенный рабочий, уже пожилой человек. Розовая лысина, растянутая майка под пиджачком, мясистое лицо. Шестьдесят седьмого года призыва, принимал участие в боях за Даманский, рассказывал как-то. Живет в соседнем подъезде. Сына посадили на семь лет за квартирные кражи, с женой развелся, СУ их закрыли. Попивает теперь.
Водочка, картошечка, сигареты… Приятно становится, тепло. Внутри размягчилось, кровь обращается в привычном режиме. Беседа идет. Заговорили о поэзии.
– …Нет, парень, ты меня не прикалывай, – просит сосед Юру. – Я хоть сам их не сочиняю, но понимать – понимаю! Давай лучше, давай просто читай и не прикалывай.
– Ну вот, например, не знаю, поймешь ли такое:
Стало проще. Просто я не знаю.
Стало легче. В это я не верю.
Слились с раскровленными губами
Чары третьесортных королевен.
Горечь лжи приходится по вкусу,
Как всегда. Чего теперь скрываться?
Стало так податливо и пусто,
Снова захотелось оставаться.
Когда Юрка читает, хоть какой бы ни был пьяный, лицо становится умным и благородно грустным, голос чистым; никогда не забывает строчек, не путается.
Жить, не слушая ни рук, ни откровений,
Жить, не чувствуя страданий. И когда-то
Стать кусочком праведных стремлений,
Чтобы в рай пустили нераспятым.
– Во! Ты чо?! – восклицает Витя. – Держи пять! Ты хоть парень и дерзкий, но – уважаю. За стихи, извини, – уважаю!
Медленно пустеет бутылка, зато говорится много. Спорим о поэзии, о государстве, о длине волос. Я завожу народную песню «По Дону гуляет казак молодой», Витя и Юрка дружно подпевают. Серега занялся картиной. Он работает над ней третий месяц, урывками, сквозь дрожь в руках, но, может, это и к лучшему. Выходит такая вещь! Грубо говоря, нечто среднее между Босхом и Дали, с примесью лучших экспрессий Мунка.
– Серега, подойди, дербалызнем!
Он отрывается от холста, наскоро выпивает и возвращается к работе. Витя просит меня спеть еще.
– «Мороз» теперь, – говорю я, – только вы помогайте.
– Ну, ясное дело!
Восемь часов утра. Мы веселые, шумные, довольные…
– Ребята, мля, как я вас люблю! Эх, мля! Молодые вы, а уважаю! Люблю и уважаю, вот! Ромка, Юрка, мля, давай споем!
– Давай, Витька!
Цыганка с картами судьбу гадала мне:
Дорога дальняя, казенный дом…
Выпито, съедено. Витя пошел домой отсыпаться. Мы с Юркой сидим в креслах, курим. Серега пытается нарисовать мелкую фигурку, но уже не может.
– Всё, перерыв, теперь только напорчу.
Бросил картину, подсел к нам.
– Какие дальше варианты? Лагутин на работу ушел, опоздали. Что, в институт?
Юрка вздохнул:
– Погнали!
Глава третья
Пед
Педагогический институт знаменит. Кого ни спроси в Абакане нашем, учились или учатся в нем. Или собираются поступать. Красивые девушки, солидные юноши, облезлые рок-н-ролльщики, будущие ученые-физики, тайные и явные алкоголики, мелкие наркоманы, очкастые ботаники…
Юрка бросил пед в этом году, я – два года назад, Серегу отчислили после первого семестра когда-то давным-давно. Но почти каждый день мы приходим сюда, чтобы достать деньжат, посмеяться над загруженными студентами, посмотреть на своих одногруппниц, которые не здороваются с нами уже. Наверное, не узнают.
Медленно идем сквозь мутный, ледяной полутуман, оставляем друг другу курить, поскальзываемся, хохочем, поем. Со стороны, думается, мы смешны и противны: один в серой офицерской шинели, женская каракулевая шапка на голове; другой в мало́й, на искусственном меху ушанке и весеннем грязном плаще; на третьем – рваные джинсы, куртка, спортивная шапочка с оранжевым помпончиком.
– О, партизаны полной луны! – встретил нас в фойе Толя Гаецкий с историко-филологического факультета. У него очки и лицо эстета, голос сытого сноба, волосы мыты шампунем, строгое пальто, «дипломат» в руках. – Какими судьбами?
– Слушай, Анатолий, – серьезно, даже сурово начал Серега, – нам крайне нужны десять тысяч рублей!
Гаецкий скривил губки, отмахнулся:
– Да откуда, парни? Сам на мели…
– Пять!
Студент достал из кармана бумажник, порылся в нем. В конце концов протянул тысячу и две двухсотки.
– Только верните! Кстати, Юра, с тебя двенадцать штук, не забывай.
– Угу, угу.
Двинулись на второй этаж. Первая пара уже началась, трудно встретить кого-нибудь.
– Ладно, первый взнос есть. Еще девять тысяч – и можно пожить.
Коридоры пусты, колышутся мягкие, но весомые переливы ученых речей; мы подглядываем в аудитории. Идут рядовые лекции, текут знания изо рта педагога в уши студента. Сами аудитории – этакий амфитеатр, но зрелище слабое; как они все ежедневно могут сидеть так, слушать, говорить – непонятно.
– Это ж моя группа! – шепчет Юрка. – Вон Аленка сидит, она меня когда-то любила, я ей теорию пределов сходящихся последовательностей объяснил.
– Вызови ее! Вызови!
Юрка снял шапочку, пригладил волосы. Постучался в полуоткрытую дверь и вступил в мир познания.
– Здравствуйте. Простите, Алену Яковенко на минутку можно? Очень важно и срочно!
Преподаватель, прерванный на интересной теме, разрешил раздраженно:
– Выйдите, Яковенко, но мы вас ждать не будем.
Алена спустилась с третьего яруса, попала в наши лапы.
– Здравствуй, прекрасная четырехкурсница!
– Что случилось?
– Алена, так рад тебя видеть!.. Не морщись, не надо, просто нет жвачки, чтоб скрыть аромат напитка. Алена, займи девять тысяч!
Знаете, коренным образом меняются люди за годы учебы в вузе. Вот свеженькая, жизнерадостная абитуриентка весело сдает вступительные экзамены, смешно напрягает личико, если возникают затруднения с ответом на дополнительный вопрос сурового, усталого педагога. А вот та же девушка в момент зимней сессии. Задолженности, конспекты, ночные зубрежки, зачеты… Бледная, трясущаяся, бегает из кабинета в кабинет, от преподавателя к преподавателю. Личико еще смешное, но жалкое; и сколько гаснет юношеских сердец, когда видят они свою любовь в таком состоянии. И даже те умницы, школьные отличницы, кто в сентябре считал себя солидной, спокойной и полной знаний, к январю превращаются в серых, глупых цыплят от страха перед словом – «отчислить»… Ладно. Теперь конец второго семестра, начало лета. Хочется быть беззаботной, свободной, но надо и перебраться на второй курс. И девушка мечется по институту со своей зачеткой в дрожащих мокрых руках. Толпы, толпы их бегают в эти дни, смешат, пугают и гасят, гасят остатки возвышенных чувств у малочисленного мужского пола… Перевалили на второй год обучения. Уже легче, с педагогами появились некие отношения, есть надежда, что не сбросят запросто с вузовского корабля в холодные воды жизни… И так из семестра в семестр, перебираясь через хребты экзаменационных сессий, теряя легкость и свежесть, принципы и амбиции, двигается студентка к диплому. Где та семнадцатилетняя милашка-все знайка, смело спорящая за пару слов в своем реферате? Хотящая стать учителем по призванию? Нет ее, а есть нездорово пухлая или болезненно худая особа; жирно накрашенное лицо, в дорогой и нелепой дубленке, с измотанным навсегда взором обесцвеченных глаз. Бежит она после занятий куда-нибудь к своему ребенку, появившемуся по ряду досадных ошибок, и от кого? – на этот счет существует у одногруппниц десяток пикантных версий. Смотришь ей вслед, и комок подступает к горлу, и слезы готовы уж капнуть из глаз бывшего романтика. «Ты ли это, Маша, Марина, Татьяна?! Ты ли не курила ничего, кроме «Данхила»? Ты ли сводила с ума? Ты ли это теперь? Твои ли губочки мечтал я поцеловать? Они ли стали жирными бордовыми пятнами? Ты ли это, Маша, Марина, Татьяна?!» А она мчится, ничего не помнит, не знает, кроме того, что завтра надо идти в школу на практику и визжать там на тридцать пять учеников-кретинов, что дома лежит ненавистный, но родной, засыпанный диатезом ребеночек.
И ты ли это, Алена? Твои ли густые каштановые пряди стали колючими лаковыми клубками? Твои ли стройные ножки поросли жировыми волнами от четырехлетней нервотрепки и неправильного питания. Твой ли взгляд перестал манить, глаза перестали гореть и сжигать сердца мотыльков?.. Ничего не сказала Алена, ничего не ответила, а скорей скакнула обратно в аудиторию и отдалась нудному голосу лектора:
Ознакомительная версия.