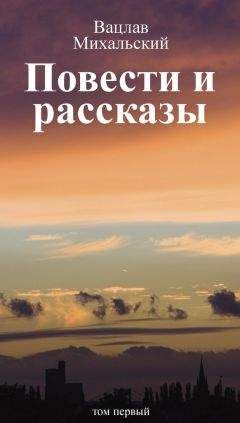К какому берегу плыть?
Как известно, метис – потомок от браков представителей различных человеческих рас. Но в обиходе это слово употребляется в более широком смысле и более точно соответствует своему французскому происхождению (metis – смешанный). В житейском обиходе метисами называют людей, происшедших не только от разных рас, но и от разных национальностей.
Кого же любить метисам, к какому берегу плыть им – к отцовскому или к материнскому? А если кто из нас еще более «мешанный», чем ординарный метис, тому куда? Разорвать свою душу на части, на лоскутки? Но во имя чего?
А как быть с «географией»? С расселением наших людей разных национальностей и «смешанных» по шестой части земного шара – «от финских хладных скал до пламенной Колхиды».
Мой отец Вацлав Адамович был по рождению поляком, моя мама Зинаида Степановна – русской. Я родился в Таганроге, а с младенчества и до зрелых лет прожил в Дагестане. Как мы попали в Дагестан?
В начале шестидесятых годов прошлого века мой прародитель был выслан из Польши на Кавказ, на войну с горцами. Видимо, он был офицером и погиб в бою. С тех пор и жила в нашем роду легенда о Дагестане. Поэтому когда я впервые прочел:
В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая еще дымилась рана,
По капле кровь точилася моя.
Лежал один я на песке долины… —
то сразу вообразил, что это был мой прапрадед. Но мне, десятилетнему, тогда и на ум не пришло, что «свинец в грудь» он получил от кого-нибудь из тех дагестанцев, с чьими потомками я живу в одном каменистом дворике на двенадцать хозяев и делю не только небо над головой и все невзгоды страны, но и крышу, покрытую драным толем, и горбушку черного хлеба с отрубями. Именно так жили мы в те первые послевоенные годы, когда попались мне на глаза и вошли в душу стихи Лермонтова, кстати сказать, поэта, глубоко чтимого в Дагестане.
Но все-таки почему наша семья, вернее, ее остатки, поменяла приазовский край на прикаспийский, Таганрог, где нас знали многие, на Махачкалу, где нас не знал никто? Что нас прельстило?
Желание выжить.
Мой отец не был ни партийцем, ни комсомольцем, ни профсоюзным лидером, ни военачальником, ни ученым, ни каким бы то ни было активистом. Сначала он работал учеником слесаря, потом слесарем-сборщиком, потом стал техником, мечтал стать инженером.
Когда наша немецкая овчарка по кличке Бой порвала соседскую курицу, отцу было двадцать пять, маме девятнадцать, старшей моей сестре Лене три года, а до моего рождения оставалось два месяца. Сосед пригрозил, что выведет на чистую воду польских шпионов. Время было подходящее – шел 1938 год. Через неделю отца арестовали.
Вместе с сотнями тысяч других женщин по всей стране моя мама дежурила дни и ночи под «нашей» тюрьмой. Спасибо, старшие сестры уследили, довели кое-как до роддома. Но здесь санитарка «опознала» мать:
– А эту чего привели? У ней мужик – враг народа! Нехай родит под забором. Идить отсюда, я не приму!
– Заткнись, дура! – закричал вдруг вставший на пороге врач. – Здесь нет врагов, а только роженицы и младенцы. Заруби это на носу, дрянь!
Так было разрешено мне появиться на белый свет не под забором.
Так, еще накануне рождения, жизнь подсунула мне задачу насчет «вражды племен»: мама – русская, санитарка – русская, врач – армянин. Мама говорила, что его фамилия, кажется, была Папиков.
Санитарка ему не простила: в день маминой выписки врача арестовали, и он вслед за моим отцом сгинул из города навсегда.
К тому времени в Таганроге у нас уже не было своего угла. Сразу после ареста отца наши вещи выставили на улицу (в прямом смысле – в грязь), а нашу «ведомственную» халупу заняли другие люди. Мамины сестры еле сводили концы с концами. Наша овчарка, отравленная, наверное, все тем же соседом, давно уж околела. На работу маму не брали – даже на пуговичную фабрику уборщицей. А в семье жила легенда про сказочный Дагестан. И однажды мама собралась, и мы поехали: в белый свет как в копеечку. Поехали и не ошиблись.
Хотя жили мы тяжело, но я всегда вспоминаю о Дагестане с самыми добрыми чувствами.
С первого курса Литинститута я начал ездить по Дагестану как журналист. И после окончания института, работая в газете, еще долго путешествовал, где на попутке, где на лошади, где пешком. Я видел воочию все тридцать девять районов моего края и слышал наречия, наверное, всех его коренных языков: аварского, даргинского, лезгинского, лакского, кумыкского, табасаранского, андинского, ботлихского, годоберинского, каратинского, ахвахского, багвалалинского, багулальского, тиндинского, чамалинского, дидойского, хваршинского, гинухского, капучинского, гунзибского, агульского, рутульского, цахурского, джекского, будухского, хиналутского, арчинского, удинского, кубачинского… А есть еще цокобский язык – по имени маленького аула Цокоб. Один аул, один язык – и никто, кроме соседей по аулу, в целом мире тебя не поймет.
Не раз шагал я один по ярко белеющей в ночи известняковой дороге высоко в горах, и никто никогда не причинил мне зла, и даже намека на это не было. Словом, мне давно есть что рассказать в добавление к той задаче о «вражде племен», которую задала мне жизнь накануне рождения.
Дагестан большой – не охватишь взглядом. Поэтому я хочу сейчас вспомнить лишь малую пядь его земли – каменистый дворик на пыльной улочке Махачкалы.
«Снова, чтобы поговорить об интернационализме, будут вспоминать эти дворики, коммуналки, очереди за хлебом, полуголодное детство – сколько можно?!» – слышу я брюзжание сноба.
А что делать, товарищ сноб?
Во-первых, у миллионов моих сверстников и у меня была именно такая жизнь, а не какая-то другая, более красивая и разумная. А во-вторых, кто из вас оспорит, что в военные и первые послевоенные годы дух интернационализма действительно был как бы разлит в самом воздухе нашей многострадальной державы.
В те времена почти никто из обитателей нашего двора не смог бы даже выговорить слово «интернационализм». (Была в городе прядильная фабрика имени «3-го Интернационала», так мои соседи называли ее фабрикой «трех националов», притом не в шутку, а вполне искренне.) Имени явления не знали, а суть его исповедовали свято.
Особенно мне запомнилась их веротерпимость. Бывало, приходил из синагоги дед Лейбо и тихонько ждал, пока совершит свой очередной намаз старик Ахат, и они посидят рядышком, помолчат, или дед Лейбо в сотый раз расскажет молчаливому Ахату о своей мечте построить «настоящее окно». В комнатушке, которую он занимал, окно было в потолке.
Особенно хорошо было нам, детям: на пасху угощала крашеными яйцами и куличом тетя Маруся, а в навруз-байрам перепадало нам сластей от тетушки Патимат.
Славные люди жили в нашем дворе: многие покалеченные войной, сплющенные жизнью, слабые, но не озверевшие, твердые в душевной простоте своей, в приверженности к добру, правде и красоте. Они не читали нам заповедей человеческого общежития, а как бы лишь намекали на них своим каждодневным примером.
В летние дни частенько дул над городом иссушающий южный ветер Магомет, гнал по белым от зноя улочкам обрывки газет, пыль, мусор. Горячий ветер забивал дыхание, наполнял голову противным, одуряющим гулом, высекал из глаз слезы, хрустел на зубах песочком, – без особого дела горожане старались не выходить из домов и с нетерпением ждали вечера. К заходу солнца Магомет обычно стихал, небо быстро наливалось темной синью, с моря начинало потягивать благословенной прохладой – давал себя знать северный ветер Иван. Летние вечера стояли чудные, вечером двор оживал. Кто-нибудь из женщин брызгал водой и подметал каменистый дворик от накопившейся за день пыли. И высыпали все от мала до велика. Кто садился играть в лото, кто в нарды. Взрослые вспоминали всякие случаи. Чаще всего вспоминали о голоде, о войне, о беженцах, опять о голоде – всегда с прибаутками, с улыбкой:
– У Клавы мать с голоду пухла. В очередь за хлебом сама ходить не могла. Клавку посылала. А та пока до дому из очереди дойдет – пайку почти всю съест – идет и отщипывает, удержаться не может. Спасибо деду Ахату и его Марусе. Маленькая Клавка сама им все рассказала. Слыхала краем уха, что ахатовская Маруся ворожит, и пошла к ней. Пришла и говорит:
– Тетя Маруся, расколдуй меня, гадину, чтобы я хлеб не съедала, а то мамка умрет с голоду!
Выходил посидеть на свой чурбак самый старый житель – азербайджанец дед Ахат. Сидел на сухом чурбаке и перебирал толстыми распухшими пальцами зеленые яшмовые четки. Дед Ахат знал совсем мало русских слов: «молодец», «спасибо», «Маруса» (Маруся – так звали его жену), «замес», «мука», «вода», «тесто» – вот, пожалуй, и все. Долгие-долгие годы проработал дед Ахат тестомесом в пекарне – он делал такие лаваши, каких ни до него, ни после никто не делал. В голодные годы этот немногословный человек многих спас от смерти, а сам, вместе со своей женой Марусей, так и остался бедняком, не утаившим на «черный день» ни золотого колечка, ни брошки, ни копейки.