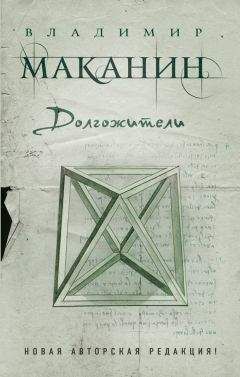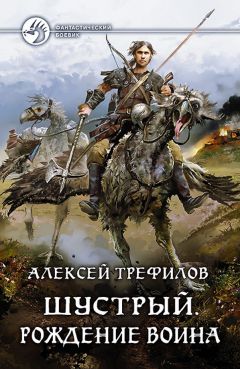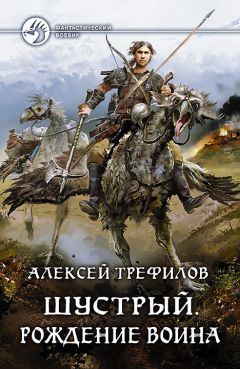Голос у нее был на самом подходе к слезам, но плакать она не стала.
– Дай мне воды, – попросила она.
Она сидела в растерянности, ее, по-видимому, угнетало, что вот уже и прощание, и что прощание застало ее врасплох, и что, знай заранее, она бы прощалась сейчас и молодо, и зло, и красиво, а тут выскакивают на поверхность слова самые обычные и жалобные и чуть ли не мещанские.
Оля наскоро оделась, и они погуляли по тайге. Они сидели под сосной – среди тех сосен с беловатыми, выступающими наружу корнями, под которыми земля всегда поражает своей сухостью, в десяти шагах от сплошного болота. Оля грызла травинку, все хотела затеять разговор, а Павел Алексеевич отмалчивался.
Он даже и простенького строительского удовольствия получать не успевал, поработал – и уже надо было идти дальше. Умники даже и здесь умели удовольствие растягивать, получая признание или вдруг занимая возникшую должность, – для него это всегда было чужим. Он был именно и только первопроходец. Ну ладно, пусть разрушитель. И в кратком его удовлетворении не было ничего, кроме самой новизны.
– Павел…
– Сказал же – напишу, как приеду, – резко ответил он.
Разговор мог стать дурным, но, к счастью, внимание было отвлечено: внизу на дороге пала лошадь. Дребезжащая телега остановилась, лошадь грузно и с маху грохнулась на землю, а деревенская молодуха, правившая ею, соскочила с телеги и заорала в голос: «Ой, боже мо-о-ой!» Павел Алексеевич приподнялся было с корней сосны, но Оля одернула:
– Сиди.
– Надо же помочь.
– И без тебя помогут.
И верно: туда уже подошли двое тощих работяг. Оба согнулись над лошадью. Лиц их не было видно. Лошадь, затянутая, хрипела так сильно, что было слышно, как на каждый хрип отвечает и вторит поскрипываньем полувывернутая оглобля. Молодухе померещился в тайге медведь, она столкнула с телеги бидон молока, что везла сюда, и гнала, нахлестывала лошадь, крутя головой по сторонам и взвизгивая. Так гнала, что потом, уже в полста метрах от стройки, не смогла оттащить лошадь от ручья. «Я не давала пить – я ж била ее! Я ж тянула ее!» – убивалась молодуха, размазывая слезы и стеная, что за опившуюся колхозную кобылу ее теперь отдадут под суд. «Не отдадут, дура. Не бойся!» – смеялись тощие работяги, а она все блажила. Работяги тем временем высвободили лошадь, – с пригорка, где сосны, было отчетливо видно, как плотник Филипп, не мешкая, кривым ножом отхватил у лошади половину уха. Он придерживал ей вялую голову, а напарник подставил, сняв с телеги, оцинкованный таз, чтобы не перемазаться. Белое дно таза окрасилось и покрылось мгновенно, кровь прибывала, но затем ток стал слабеть, и кровь уже задергивалась парком, чуть пенясь у краев. «Хорошо. Ну вот, а ты ревела, балда!» Лошадь не встала, но глаза открыла, ожила. Ноги были подвернуты, и теперь осторожными движениями лошадь пыталась их высвободить.
В комнате был разгром. Павел Алексеевич сказал: «Ого», – справа под глазом у Томилина пылало багровое вздутие, но сам Томилин, простившийся наконец с Эльзой и отпущенный на все четыре, улыбался:
– Я теперь самый счастливый человек на земле… Нет, Павел, что там ни говори, а я все-таки счастливый.
– Я бы сказал, что ты везучий.
– Необыкновенно везучий! – Томилин открыл консервы, выставил две бутылки портвейна – и как раз ввалились Витюрка с вертолетчиком. Вертолетчик мигом сообщил, что пить не будет, но что сейчас придет второй вертолетчик (тому сегодня не лететь) и уж он-то обязательно хлебнет. И тут же пришел этот второй, загромыхали стаканы – скорое застолье получилось удачным, как и положено скорому застолью. Даже и не спешили. Витюрка выволок тетрадку со старинными романсами, пьяно вглядываясь в размытые и потекшие слова, он объявлял, чья музыка, и пел, перевирая. Вертолетчики ушли; все трое стали собираться.
– Прощай, наша комната! Сколько ж мы их сменили! – воскликнул сентиментальный Томилин.
Павел Алексеевич собрал рюкзак, а также небольшой свой чемоданчик; он повертел в руках бамбуковое удилище, которое сломала гневливая Эльза, – повертел и выбросил. Витюрка, набив рюкзак, упрятывал в чехол гитару. Дольше всех собирался Томилин, большой аккуратист: у него был укладистый чемодан, еще и с множеством всяких отделений, – он без конца умещал и упорядочивал свой кочевой скарб, там даже прикнопливался кармашек для коробки с зубочистками.
С комнатами Павел Алексеевич расставался просто, но сами места, окружающую природу он помнил с ненужной бессмысленной тщательностью. При отбытии подробности выступали так ясно, что он помнил, кажется, разбросанность камней в воде на перекатах, как помнят люди расположение звезд на небе. В обнаруженном ручье или в речке он чувствовал некую интимность, даже и стыдливость их быстрых поворотов – смешно сказать.
Они подошли к вертолету на самом закате. Предстоял перелет с двумя дозаправками – они решили лететь на Усть-Туру; как и всегда, они решили буквально в последнюю минуту. В общем, им было все равно куда, лишь бы подальше. Пилот закричал: «От винта!» – желтого кругляка солнца видно уже не было.
Желтый кругляк был за елями; взлетев, они с относительной высоты снова увидели зависший шар в мощном, ярком, хотя и полупогруженном сиянии. Но ненадолго. Наколотое елями солнце быстро садилось, и, чтобы его видеть, нужно было взлететь еще выше, а этого им не предстояло. Тайга стала быстро сливаться с ночью. Скоро совсем стемнело, только в кабине кучился бледный свет, и Павел Алексеевич стал смотреть на пилота, когда-то он его знал.
Когда-то вертолетчик был совсем юн, а Павел Алексеевич, тридцати лет, крепкий, даже и могучий, перебрасывался с небольшой веселой группой почти в самое устье Серебрянки. Тогда Серебрянка гляделась глухоманью, и вертолетчик прижимал машину к верхушкам елей: неуверенный, он прикидывал место для высадки, а Павел Алексеевич все не соглашался и говорил: «Нет, подальше… Еще подальше». Юнец облетал очередную опушку и спрашивал: «Здесь?» – «Нет. Дальше… Еще дальше». В группе знали, что за Павлом Алексеевичем гонится жена, и хохотали, а Павел Алексеевич им подмигивал. Павел Алексеевич был начальником той группы, было время! Вертолетчик, уже скиснувший, спрашивал: «Ну, здесь?» – и Павел Алексеевич, вновь заряжая группу даровым весельем, отвечал: «Можно и здесь, но нельзя ли подальше?»
Теперь (спустя много лет) Павел Алексеевич вынул бумагу и набрасывал письмо:
«…Опять просишь денег, но ведь нет их у меня, мать, нет. Сама знаешь: я не держу деньги. Едва-едва хватает на консервы и выпивку, пойми, без выпивки консервы тут не съедобны.
Поломанная нога еще болит, выступили мелкие язвы, бередят кожу и никак не заживают. Чешусь я все время – отворачиваюсь от людей и чешусь. Был тут один плевый врачишка, сказал, что, как снег, мол, выпадет и тепло совсем сойдет, тогда станет полегче. Посмотрим. Но только я думаю, что и врачишке, и моей ноге цена одинаковая – копейка.
Так и соседям скажи, и пусть не подзуживают тебя и не подначивают – нет у меня денег, сдохну я скоро, грудь хрипит, и голова к вечеру кружится, вот-вот, думаю, грохнусь на землю, а если наш брат падает, это конец. В руках еще есть сила, тем и держусь…»
– Вот и сговорились! – сказал в Усть-Туре начальник и что-то он еще долго объяснял, не подозревая, сколь знакомы Костюкову эти места.
Порушив нехоженость, чуть обжив и наведя людей на дело, Костюков вскоре уходил, а уж люди вытаптывали вслед за ним. В этом смысле он, пожалуй, и правда год от года все больше делался разрушителем, а черты его лица все больше приобретали как бы волчью жесткость. (Казалось, меж нетронутостью природы и жесткостью его лица существует ясная причинная связь.) Иногда ему мерещилось, что где-то за тайгой будут холмы и поле. Он словно бы видел холмы на закате – вершины краснели, как угли, а сами холмы были черны, как из черной бумаги, он хорошо это помнил.
Переговорив с усть-турским начальником, Павел Алексеевич вышел из конторы и захромал («Эй, хромай сюда!» – крикнули ему) к общежитию. Общага была одноэтажная; Павел Алексеевич вошел в строение и отыскал комнату по звукам гитары – наскоро опохмелившийся Витюрка играл и напевал романс:
Я встретил вас, и все былое
В умершем сердце ожило…
Он заразился от вертолетчика дурацким надрывно пришептывающим тоном и теперь будет пришептывать недели две.
– Ну что? – спросил Томилин.
А Павел Алексеевич, расслабляясь, потрепал его по плечу:
– В норме. Начальник велел нам сбивать бригаду.
– Пока ты с ним торговался, мы комнату подыскали. Как видишь, замечательная комната! Койка у окна – идет?
– Ведь знаешь, грудь у меня похрипывает.
– Ну, поменяемся!..
Как всегда на новом месте, Томилин был в восторге:
– …Сосед у нас, посмотри, какой замечательный! Вчетвером, конечно, тесновато, но назад не вернешь: уже и бутылку распили, познакомились – мужик милый!