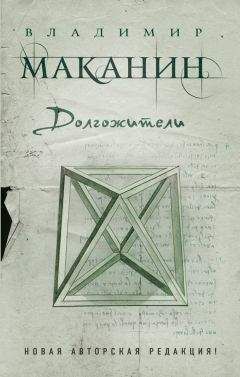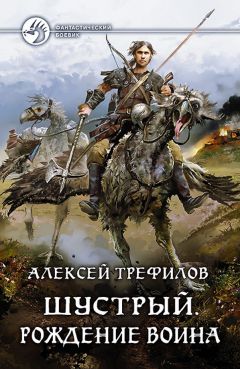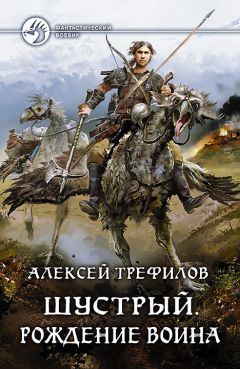Павел Алексеевич посмотрел на «милого» мужика – тот сидел на своей койке и под взглядом Павла Алексеевича съеживался. Он становился меньше плечами и телом, он ссыхался, а Павел Алексеевич ждал, когда сработает память: мужика он встречал.
– Здрасте, – кашлянув, произнес сидевший на койке и робким голосом наконец выдал себя: конечно, воришка Комов.
Круг геологов, вертолетчиков, работяг и поварих рано или поздно становился узок, люди мало-помалу уже повторялись, и, быть может, не Комов раздражал сейчас Павла Алексеевича и даже не то, что он вор, а само повторение. Павел Алексеевич не стал шуметь. Павел Алексеевич выждал, он послал Томилина посмотреть, что тут за продуктовый ларек и что за люди, – Томилин ушел. Витюрка не мешал, щипал гитару, пребывая в опохмельном блаженстве. В открытое окно пахнуло летом. Павел Алексеевич шагнул к Комову и негромко сказал:
– Собирайся.
– Да я… Павел Алексеевич… дружок, простите меня. У меня ж это редко…
Павла Алексеевича просьбы не трогали: очень возможно, что Комов был больной и не мог время от времени с собой и своим пороком справиться, но, возможно, что он просто-напросто хитро и осторожно высматривал свою минуту, – Павел Алексеевич допускал и вариант дурной, и вариант жалкий, однако в разницу вариантов вдумываться не желал. Он помнил, как Комова били; он помнил, как хлопотно сдерживать разъярившихся работяг.
– Собирайся, – повторил Павел Алексеевич. – И иди прямо к вертолетам – ты меня хорошо понял?
Комов суетливо хватал вещь за вещью – он собирался, он что-то негромко бубнил, нет-нет да косясь на старого знакомца. Они мешали друг другу: Комов знал о Павле Алексеевиче, а Павел Алексеевич знал о Комове, однако козырь Комова был мельче, был бит, и никаких перемен тут быть не могло. Комов встал, подхватил рюкзак. Вздохнув, как вздыхают перед дорогой, он жалковато кивнул Павлу Алексеевичу и исчез. Витюрка проснулся от хлопнувшей двери и вновь в полузабытьи пощипывал гитару: «Я встретил вас, и все былое в умершем сердце…» Рядом с Витюркой, на газете, горбилась буханка хлеба и консервные банки, одна на одной.
Павел Алексеевич вышел – Томилин восседал на крыльце общежития, у самого входа. Вокруг Томилина были люди – человек восемь, прослышавшие о бригаде, они уже крутились и вились около.
Павел Алексеевич взял из рук Томилина список:
– Кого это ты набрал?
– Все как надо, Павел. Все как ты любишь. – Томилин охотно сдал полномочия.
Но было не все как надо – Павел Алексеевич начал вычеркивать. Люди, сообразившие, что Томилин никакой не бригадир, мигом столпились вокруг Павла Алексеевича. Жарко дышали. Говоря вразнобой и настырничая, они уже порядком нервничали. Они заглядывали через плечо, один особенно базарил: «Я техник! – выкрикивал он. – Техник и хочу быть техником!» – а Павел Алексеевич ему объяснял: техники не нужны.
– Куда же мне теперь деться?
– Куда хочешь.
Тот замялся:
– Я на заводе работал… техником работал.
– На твой завод мне наплевать. Каменщиком пойдешь. Второй, что размахивал трудовой книжкой, твердил, что он экономист. Но и ему деться было некуда.
– Каменщиком, – сказал Павел Алексеевич, сделав пометку в списке.
Когда вернулись в комнату, Томилин закатил вдруг истерику – он увидел опустевшее место Комова: «Ты выгнал его? Выгнал? – И Томилин пустился в громкий жалостливый крик, с ним бывало такое. На новом месте Томилина всегда распирал восторг, переходивший в шумную симпатию к самым случайным людям. Это длилось день-два. Он был готов всех любить. Он как бы начинал жизнь заново. – Хороший человек был – зачем, Павел, ты его выгнал? Он мне понравился, такой милый мужик, тихий…»
– Заткнись.
Витюрка вмешался:
– Да бросьте лаяться на новом месте.
– Но, Витя, мы же по душам поговорили. И бутылку с ним выпили…
Витюрка остался рассудительным:
– Если уж мы будем лаяться, что будет?.. Вы заметили: здесь одни сопляки вокруг – нас только трое взрослых.
– Почему трое?.. А поварихи? – И Павел Алексеевич кивнул в сторону Томилина.
– Издеваешься! – Томилин, взвизгнув, кинулся с кулаками.
Павел Алексеевич несильно оттолкнул, а оступившийся Томилин потерял равновесие и плюхнулся на собственную кровать. Те двое засмеялись, а Томилин затравленно вскрикнул. Он вскрикнул тонко, как осенняя чайка. Место было новое, и кровать была новая, но жизнь старая; суровые и деревянные приятели так и остались суровыми и деревянными – не понимали его. Именно от бессилия, от невозможности понять их и объяснить им себя Томилин ткнулся в подушку лицом, вцепился в нее руками и заплакал, нервный и слабый человек.
Павел Алексеевич, усмехнувшийся и мигнувший Витюрке: проследи, мол, за нашим чудиком, отправился «потоптаться на стройке», однако, вскинув от подушки злое, заплаканное лицо, Томилин успел крикнуть вслед:
– Издеваешься? Людей гонишь?.. Погоди – скоро сам побежишь…
И еще крикнул:
– Сам без оглядки помчишься… В пятой комнате парень уж больно личиком на тебя смахивает, не сынок ли твой?
Павел Алексеевич был в дверях, уже закрывал за собой дверь, но и в еле заметную сжимающуюся дверную щель слова протиснулись и нагнали, сердце екнуло. Сыновья преследовали Павла Алексеевича куда злее, чем женщины.
Спокойствия ради, а также учитывая, что всегда лучше знать, чем не знать, Павел Алексеевич, конечно, уже не мог не зайти в пятую комнату. Он шел по коридору – глядел в окна, что с правой стороны. Он шел, и сердце скисало, как, вероятно, скисало оно у Томилина, когда тот уткнулся лицом в подушку. Он почувствовал себя пустым. Усть-Тура, давно забытая и потому вроде бы свежая, диковатая, разом потеряла свою новизну.
– Можно? – Павел Алексеевич толкнул дверь. Парень был один, валялся в сапогах на кровати.
Валявшийся не был сыном Павла Алексеевича, это было видно. Но его соседи по комнате дружно отсутствовали, что и настораживало, так как сыновья обычно держались вместе и преследовали Павла Алексеевича стаей. Помедлив в дверях, Павел Алексеевич на всякий случай спросил – хоть что-то нужно было спросить:
– У вас тут свободной койки нет?
– Нет. Занято.
Павел Алексеевич еще спросил:
– А кто здесь поселился?
– Не знаю.
– А сам откуда?
– Чего тебе надо, дядя? – грубо рявкнул тот. – Чего ты такой любопытный?
– Да так.
– А то ведь я за «так» и вломить могу.
Парень был не в духе.
Павел Алексеевич пошел на стройку – дорога была скверная, а подвозы еще хуже. (Зато карьер, где брали глину для кирпича, обнаружился почти рядом.) Ели застыли. Летом смиришься с чем угодно, и с плохими дорогами тоже. Скопившееся тепло дня просилось в душу, хотелось расслабиться. Верхний, верховой ветер, ровный и сильный, не издерганный сменой гор и долин, не порывистый, налегал на макушки деревьев, топорща иглы, – там начиналось натяжение, от которого дерево мало-помалу гнулось, пружинило, а ближе к комлю, недвижное, как колонна, огромное, дерево начинало звенеть дрожью, петь.
Но расслабиться не удалось: помешали. Возле Павла Алексеевича (заметив, что на стройке человек кружит в задумчивости, и быстренько смекнув) появились и теперь вышагивали рядом три девчушки в перемазанных и перелатанных джинсах, пошептались, похихикали и, наконец, осмелев, стали напрашиваться: «Товарищ бригадир, как вас зовут?.. Товарищ бригадир, не возьмете ли нас?» – а Павел Алексеевич ответил им, недовольства не пряча: бригада укомплектована, да, полностью. (Нужнее были мужчины, этих горожанок он всегда найдет.) Девчушки еще сильнее заулыбались и засверкали глазами, девчушки на ходу закурили; зная свое просительное дело, они не отставали:
– Ну, товарищ бригадир, ну не будьте сукой… Ну никто ж нас не берет!.. Мы работать хотим. Мы, знаете, откуда приехали!..
Павел Алексеевич знал, откуда они приехали, или почти знал.
– Идите на кухню.
– Были. Там занято все. Тетки нас лопатами прогнали…
Девчушки приотстали, но все еще шли.
Обойдя карьер, Павел Алексеевич уже возвращался, вокруг притихло, и тут сердце Павла Алексеевича, поплыв, екнуло второй раз, – у зеленой стены ельника, камень камнем, как будто он стоял здесь и осенью, и зимой, и в весеннюю грязь, возник Василий.
– Здорово, батя! – Василий стал заметно плечистее, здоровее, а лицо сделалось квадратным, как у его матери якутки. В глазах еще была, теплилась детскость, но никакой детскости не было в том, как он стоял. Он не переминался с ноги на ногу. Он стоял как каменный столб. Каким следом он разыскал Павла Алексеевича, было неясно, но было ясно, что разыскал и что очень этим доволен.
Целоваться он не лез – пожал руку. И с ходу грубовато сказал:
– Я на мели, батя, дай-ка для разбега деньжат.
Привычка упрощала, не первый раз Василий ловил Павла Алексеевича и не первый раз выбирал у него деньги. Дело было из налаженных: он выбирал сколько мог, а мог он много, и надо было бы озлиться однажды, обрубить и пресечь, однако и Павел Алексеевич не всегда и не все мог обрубить и пресечь. Своя слабинка, все более определяющаяся и обнаруживающаяся с годами, отыщется у всякого. Мало чего в жизни Павел Алексеевич конфузился или стеснялся, как конфузился и стеснялся рыщущих за ним следом сынков. Даже не конфузился, нет, однако делалось ему от их неунывающего вида тоскливо и муторно, – сложное чувство. Когда-то он платил алименты, теперь он платил неизвестно что.