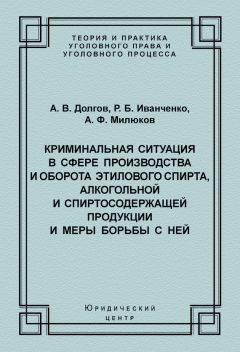Ознакомительная версия.
– Чё ищешь?
– Деньги.
Она открывает какой-то ящик в прихожей, там один доллар и несколько сотен евро. Блин, думаю, где же я их сейчас поменяю? Вспоминаю вдруг о восьми пустых бутылках, спрятанных где-то под мостом, недалеко – каждая бутылка десять рублей, вполне хватит – и иду за ними, почему-то голый, беру четыре и иду обратно, уже почему-то в плавках, из-под моста нужно подниматься по длинной лестнице, навстречу мне скейтбордисты и роллеры. Приношу домой эти четыре бутылки, уже полночь, звонит Карлик, типа, мать встретила, если хочешь получить деньги – завтра приходи ко мне домой.
Рядом с компьютером стоит коробка, и я вдруг замечаю, что на ней заводским шрифтом напечатан адрес: «Московская» и дальше там что-то, вплоть до домофона.
Странно, думаю я, мать приехала, но что-то не спешит ко мне домой, да и Карлик чего-то… Все это время я пытаюсь вспомнить одну песню, это такая классная женская песня, но когда я настраиваю свой мозг на воспоминание, мне почему-то лезет в голову: «то взлетая прямо в небо»… А, ладно, думаю, хрен с ним, сто рублей есть, пойду-ка я за водкой, а завтра вернусь в больницу. И тут, на этом месте, просыпаюсь.
Ночью было что-то жуткое. Бухало полбольницы, выгнали четырех человек, в том числе Абрамова и Малинина, видел их сейчас на скамейке у входа, сидят похмеляются пивом, прежде чем идти на остановку. Предлагали и мне.
Сколько же здесь людей с неудачной кармой… В сущности, почти все. И есть люди, на которых уже поставлен крест, типа Абрамова и Малинина, их пути просты – тюрьма и смерть.
Один из немногих более-менее нормальных людей – это Коробейников, мой сосед по палате. Человек с обаятельной улыбкой, когда у него хорошее настроение.
Сидим с ним вдвоем за столиком в столовой (наши соседи в столовую не ходят, и их можно понять).
Заходит сестра, пожилая женщина лет пятидесяти:
– Коробейников здесь?
Коробейников, на армейский манер, прикладывает руку к голове.
– Кончай завтракать, сейчас к хирургу пойдем. (У него что-то с ногой.)
– Вместе пойдем?
– Да, вместе.
– Оу, – говорит Коробейников, – надо будет тогда у аптеку зайти…
– Хорошая шутка, – замечаю я, и мы начинаем смеяться.
Я никогда не пытался понять своих героев – вот в чем проблема.
Я всегда шел с другого конца – я их просто создавал, и они были довольно живые.
Понять их психологию никогда не пытался.
В Зигфриде я нарочно соединил две крайности – нацизм (а Зигфрид непременно должен быть нацистом, чтобы усилить впечатление разлада) и романтизм, неудовлетворенность, недовольство, в том числе и самим собой, благородство, интеллигентность и так далее.
И вот я все это вложил в него, а он, бедный, мучается.
Понятно, что ничем хорошим для него это не закончится.
Сейчас я в первый раз решил пойти «от персонажа» и разобраться в психологии Анны Гьелаанд.
Раз я решил, что она будет жестокосердна, пусть будет такой, но – почему?
Мать на хорошей должности, они вполне обеспеченны, загородный домик и так далее, никаких проблем, война идет где-то совсем далеко и кажется нереальной, только строчки в газетах да радиоголоса.
Понятно, что отца у Анны нет и мать ее избаловала.
Анна так же умна, как Зигфрид, но если у него в душе постоянно происходит конфликт – между сердцем и разумом, между сном и явью – и он пытается найти хоть какой-то компромисс между добром и злом, еще не понимая, что компромисс этот – невозможен, то Анна и не пытается бороться со злом в своем сердце с самого младенчества, она не имеет души и просто развлекается, ей все скучно – и сверстники и политика партии, она слишком умна для всего этого.
Может, начать писать хотя бы чистый текст с пропусками – типа, «я купила хлеб за…» и пробел, и если чистый текст пойдет, то можно будет потом все пробелы – заполнить.
Это же не историческая книга, в конце концов.
Сегодня в церкви людей побольше – целых пять человек.
Священник все время кашляет, читая текст.
Хоть вживую, а не пластинка, как обычно.
Сходил в четырнадцатое отделение (для психов), куда меня хотят положить, долго ждал врача после обхода, но она была крайне занята и назначила собеседование на завтра на полдесятого утра.
Завтра – вот ключевое слово! Сделать завтра, написать завтра, отложить до завтра – нет большего счастья для меня.
Инфантилизм, как сказал бы Герман Геринг.
Поговорил с пациентами. Там два сектора: один для настоящих психов, который тщательно охраняется (когда открывают дверь, видно, как они там бродят в пижамах), другой – с более щадящим режимом, для почти нормальных, у которых шизофрения, маниакально-депрессивный психоз и так далее.
По виду никогда не догадаешься.
Они говорят, что тут условия даже хуже, чем у нас, выход на улицу из «нормального» сектора далеко не у всех, и так просто не выйдешь, дверь всегда заперта и надо звонить.
Психиатр с ними не работает, только изредка бывают какие-то тренинги, где все, взявшись за руки, послушно рассказывают о своих горестях.
В общем – бред.
Туалет лучше, чем у нас, а вот телевизор только один.
Тяжелым ставят уколы (у нас – капельницы), всем остальным дают таблетки.
Так стоит ли туда переводиться?
В ожидании врача сидел на скамейке рядом с симпатичной девушкой, она принесла передачу для мужа, которого вчера сама туда и сдала – в сектор для настоящих психов, – и спрашивала санитара с испугом: «А он оттуда не сможет вырваться, не сможет убежать? А то он вчера хотел меня убить…»
Днем что-то задремал. Вечером на скамейке философский диспут по поводу кодировки.
Один очень толстый пациент объясняет, что вся кодировка суть плацебо и держится исключительно на самовнушении.
Другой – собравшийся кодироваться аж на пять лет – внимает этому с явной тоской.
Коробейников его очень остроумно называет Солнышком – из-за его синей футболки, на которой пламенеет ярко-желтое солнце.
Все девять дней, что я здесь лежу, он ходит только в этой футболке.
Если бы вдруг ему пришло в голову помыться и переменить футболку, то вряд ли бы его кто-то узнал.
Заснул в полчетвертого, проснулся в семь, потому что сосед Влад (я его никак не зову, не помню его настоящего имени. Коробейников вчера тоже озаботился этой проблемой: я, говорит, называл его Владом, а приехал Вовка (еще один наш сосед, который на стационаре) и стал называть его Славой. Я говорю: «Ну, типа, значит, его Владиславом зовут, вполне логично и разумно». Но Коробейников на этом не успокоился: «Может, Вячеслав?» Я говорю: «Ну с чего Вячеслав-то?» (В это время старая нянечка моет пол в палате.) Коробейников: «Давай спросим у независимого эксперта. Вот, по-вашему, Вячеслав и Владислав – это одинаковые имена?» Нянечка: «Ну вроде разные, хотя буквы у них одинаковые…») зачем-то поставил будильник в переносном телефоне на семь утра. Как он объяснил, так его попросила сделать Олечка… (Почему Олечка сама не поставила – бог знает.) Загадки, загадки.
В коридоре уже кипит жизнь – кто-то умывается в ванной, на двери туалета скромная табличка – «Женщины».
Через секунду оттуда выглядывает Олечка и просит туалетной бумаги (значит, она знала заранее, что все именно так и будет), я оставляю соседу эту приятную миссию, а сам спускаюсь курить в туалет первого этажа, там в туалете уже вся первая палата в полном составе.
Спрашиваю о здоровье Эшпаева – говорит, все нормально, ноги в порядке, сегодня выписывают, за ним приедет сестра Катя, если сегодня не приедет, то врач оставит еще на день до ее приезда.
Ночью, в три часа, в туалете – я, Коробейников и Олечка.
Олечка, как всегда, разговаривает с кем-то по телефону.
Коробейников:
– О Господи, неужели в такой час кто-то еще может быть там – на другом конце провода?
Из плакатов четырнадцатого отделения, висящих на стене:
«О возможности суицида предупреждают следующие признаки:
– высказывания больного о своей ненужности, греховности, неискупимой вине;
– безнадежность и пессимизм в отношении будущего, нежелание строить какие-либо планы;
– наличие «голосов», советующих или призывающих его покончить с собой;
– убежденность больного в наличии у него смертельного, неизлечимого заболевания;
– внезапное успокоение больного после длительного периода тоски и тревожности. У окружающих может возникнуть ложное впечатление, что состояние больного улучшилось. Он приводит свои дела в порядок, например пишет завещание или встречается со старыми друзьями, которых давно не видел…»
(sic!) [1]
Давно я так не смеялся, читая информацию на стенах отделения.
До чего все-таки непунктуальны люди! Я даже не доел завтрак, чтобы успеть к половине десятого в четырнадцатое отделение, и вот уже десять двадцать пять, а я все сижу и жду, когда меня вызовет Ауэрбах.
Разговор на улице у входной двери. Человек, тоже живший в Улан-Удэ до восемнадцати лет:
– Ну, я, короче, стрелять начал, а потом то ли всех эльфов убил, то ли патроны кончились, не помню точно…
Ознакомительная версия.