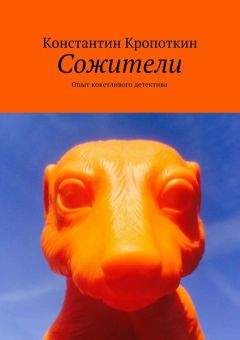Ознакомительная версия.
В тишине темень стала будто загустевать, подступая все ближе, ближе.
– Уйди! Уйди! – завизжал я, толкаясь ногами, отползая на заднице все дальше, вдоль бесконечной стены, – Что я тебе сделал?! Уйди от меня! Уйди!
– …Вам кажется, что все для вас, – заговорил он еще через невозможно длинное количество бесконечно тянущихся минут, – Что можно себе дозволять все. Вести себя. А не позволено, – он тонко взвыл, как от приступа острой боли, – …подлые, злые. Злые-подлые. Ни во что не верите. Ни долга не знаете. Ни совести, ни чести. Только одно на уме, только одним и сыты, твари, суки. Хотите с огнем сыграть? В ад хотите? В преисподню? Так нате вам, по грехам вашим, надменные, пятою рабскою….
И раз, заскакала зайцем в голове моей страшная мысль, и два. Пироговна, дрянной старик Пироговна. В клубе истыкали ножом его, дурака-горемыку.
И раз, и два, и три.
– …и кровью черной… страшной черной кровью будете харкать вы, захлебываться. Убить вас, всех, стрелять вас, всех, резать, четвертовать, рвать на куски, на шматы, на жилы. Все жилы вы у меня вытянули, все жилы, сил нет никаких нет… слезы высохли, ночи без сна. Не умеете по чести жить, так умрите по совести… надменность… рабскою пятой…, – и опять умолк.
И грянул свет, вынудив меня ненадолго закрыть глаза, как от резкой боли.
Вспыхнул свет, а в унисон ему дохнул громкий вздох.
Я мог бы и раньше догадаться.
– Люди-люди, – заговорил он теперь быстро, сбивчиво, торопясь куда-то, словно свет может лишить его способности говорить, а ему еще так много надо успеть сказать, – За что же вы такие, люди? За что? Злые люди, подлые люди. Нелюди, а не люди, нелюди. Злые, подлые, и смерть не спасет, и в аду кромешном будут корчиться ваши души, в геенне огненной, страшной, будут бесы плясать вам, рожи их, рога их, копыта, будут вам всегда, подлые, злые, нечисть, дрянь, нет вам места на земле, сгинье, уйдите, освободите ж меня, ослобоните, – он произнес совсем тонко, по-детски, силы его были на исходе, он задыхался, – …дайте ж, дайте ж вздохнуть мне, я дышать хочу, я жить хочу – не могу бояться, устал бояться, ждать, нет в вас жалости, совести, чести. Ничего нет… – и затих.
Гардин. Серый человек.
Он лежал на полу, раскинув полы светлого пиджака, как тот мотыль. Было что-то от насекомого и в лице Гардина – иссохшего как-то вдруг, пошедшего нечеловеческими какими-то буграми – или это свет виноват? Яркий электрический свет залил все вокруг одинаково-ровно, равнодушно.
Затих серый мотыль, распластался, а на отдалении от него, поблескивая лезвием, лежал небольшой столовый нож с ручкой из светлого дерева.
Свет вспыхнул не сам собой, конечно – кто-то из вошедших зажег его, прежде услышав дикий наш разговор, прежде поспешив на помощь, призвав остальных.
Вбежав разом, увидев нас, лежащих на полу на отдалении друг от друга, люди застряли, как возле кромки воды, полукругом. Стоял темной глыбою Кирыч. Белела круглым своим лицом Манечка, прикрывая большим телом хрупкого Голенищева. Жались друг к другу разноцветные Сеня с Ваней, а меж их голов торчала светлая головенка Марка – он в испуге вытаращил глаза.
Мелькнула цветастая рубашечка: протолкнувшись вперед, к Гардину подбежал Аркаша, он присел над ним, а ногой, быстрым ловким движением, толкнул нож подальше, в мою сторону.
– Ты жив?! – он склонился над Гардиным, – Что он тебе сделал? – и задрожал его голос, как в истерическом рыдании.
На груди Гардина, на голубой рубашке и чернело большое пятно, похожее на сердце – следы моих ног, не иначе.
– Люди-люди, за что же вы такие злые, люди? Злые люди, подлые, любят вас – а вам мало, все готовы отдать вам, – а вы издеваетесь, смешно вам, гоготно. Вы сами не знаете, чего вы хотите, ничего не жаль вам, никого вам не жаль. Никого…, – он с усилием приподнялся, присел, стряхнув руки Аркаши, как палые листья.
Взгляд его не выражал ничего – только смертельную усталость безнадежно больного человека.
Надеюсь, это был первый и последний раз в моей жизни, когда я разговаривал с маньяком. Боженька, если ты есть, пусть это будет в первый и последний раз.
Нас было пятеро.
В тот момент, когда солнце наконец продралось сквозь вялую осеннюю листву и высветило разводы на окнах, – за стеклом, внутри квартиры, находилось пять живых существ.
Был поздний, очень поздний завтрак, а вернее, последствия его: откушав все положенное, все мы разом отвалились от стола; поесть надумали в гостиной, по-парадному – и, набив животы, отяжелели, никто убирать чашки-плошки не захотел.
Все просто сидели. Кто где. Кто как. Переваривали.
Кирыч, полулежа на диване, включил телевизор и смотрел его без звука – движущиеся картинки всегда его завораживают. Он так отдыхает, набирается сил.
Марк, провернув кресло к окну, подставил тело солнцу, а лицо загородил айфоном, на экране которого тоже что-то мелькало и двигалось.
На стуле возле Марка с прямой спиной сидел Ашот. Кавказский принц с лицом, как обычно, безжизненно красивым листал журнал.
Я, сидя возле Кирыча, в своем углу дивана, положил на колени ноутбук, желая не то записать что-то, не то посмотреть, но – от еды, должно быть, – о цели своей забыл, замер, задумался.
Пятый лежал на ковре и ни на кого не смотрел – он был обижен, и я бы не его месте был бы обижен тоже: на весь день заперли, ничего не сказали, а явились, когда уже и ждать устал, и на луну выть тоже. Вирус служил живым укором и, надо признаться, у него это отлично получалось.
Мы пришли слишком поздно – очень рано мы пришли, под утро, отсмеявшись, наплакавшись, наговорившись, дав всевозможные показания, в них запутавшись, устав до последней крайности – я специально говорю «мы», потому что мне, в мои уже не слишком юные годы, все еще неловко признаваться, что я способен открыто выражать свои чувства.
Мне было простительно. Меня вчера чуть не убили – такое случается не каждый день. А на другой день, когда проснулись, каждый повел себя так, словно ничего особенного не произошло – только говорили чуть тише, шумели поосторожней.
Вчера много кричали, а сегодня наступило время тишины.
Увы.
Нас было пятеро, сидели мы у нас дома, в обстановке знакомой, отделившись от внешнего мира, как смогли. И, находись я в обычном своем состоянии, а не с чугунной головой, то сообщил бы сейчас же о задернутых наглухо шторах, о кислом воздухе страха, который якобы витал, об испуганных разговорах, что же делать дальше.
В моем игривом пересказе этим осенним поздним утром появились бы орды репортеров: они оккупировали бы палисадник перед нашим домом, они звонили бы нам в дверь и обрывали бы телефоны – им всем хотелось бы вывести нас на чистую воду, представить в положении самом невыигрышном этих четырех мужчин (плюс беспородный пес), которые живут не так, не с теми и не там.
Изобразил бы, в общем, смех сквозь слезы, слезы сквозь смех, всего понемногу, как смог, на что бы хватило таланта. Так, как это уже было двумя с лишним сотнями страниц ранее. Я люблю кольцевые композиции.
На самом же деле, ничего не было. Поев, отвалились. И минуты шли, и мы жили, как жили.
– И нигде ничего? – повторил я свой вопрос.
– Не-а, – проглядев картинки в айфоне еще разок, Марк покачал головой, – Только хорошее пишут. «Событие», пишут, еще «нашумевший», а также «маст-си».
– Как ленивы в России папарацци, – сказал я.
– Они везде такие, – сказал Марк, – Приходят, если зовут. А если не зовут, то не приходят.
– Им приглашения что ли присылать надо?
– Ну, можно и приглашения.
– Папарацци? Приглашения? – включился в беседу Кирыч.
– Ну, пробалтываться будто бы случайно, – сказал Марк, – или еще как-нибудь давать понять, что сенсация под носом. Просто так ведь ничего не бывает.
– Марусь, – сказал я, – тебе надо было идти в пиарщики. Много бы денег заработал.
– Нельзя все мерять деньгами, – сказал Ашот, никогда не ведавший нужды.
– Всего не заработаешь, – сказал Кирыч, получающий, наверное, больше нас всех, вместе взятых.
– Тебе надо, сам и иди в свой пиар, – сказал Марк.
– А тебе, конечно, ничего не надо, у тебя же все есть, – произнес я с издевкой.
Вирус поднял голову с ковра и, предчувствуя домашний аттракцион, гавкнул.
– Все не все, но кое-что есть, – сказал Марк.
– Что, например? – спросил я.
– Сам же говорил, – пожал плечами, – живу, как хочу. Вот, я и живу.
– И чего ты теперь хочешь? – я переложил ноутбук с коленей на стол, сдвигая тарелки и чашки, – Хочешь взять, и опять смыться лет, эдак, на десять?
И повисла тишина. Она висела довольно долго, неудобным, душным таким пологом.
Потом завыл Вирус. Подняв морду к потолку, он начал выталкивать из горла длинные, гулкие звуки. Скоро по трубе заколотила неутомимая соседка сверху.
Ознакомительная версия.