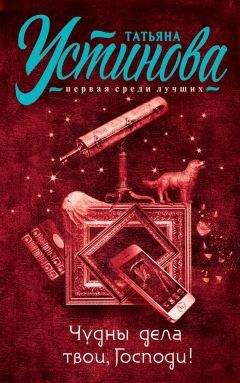– После впущу… Привык здесь отсыпаться.
«Выбрось на улицу паршивца, – говорит, слышим, дядя Петя. – С грязными лапами приперся в избу… После него тут убирайся».
Смеется Таня.
«Пусть молока попьет сначала, – говорит, слышим, тетя Надя. – Небось голодный… Васька, иди… Кыс-кыс, кыс-кыс».
Ушел кот, наверное, – больше не скребется.
– А тут чё? – спрашиваю.
– Выпускной, – говорит Таня. – Рыжий твой с Маузером…
– Здорово звучит.
– Ага.
– Это в дверях… стоят в обнимку?
– Они. Направились куда-то… Маузер – нет, а Рыжий оглянулся.
– На Ленку?
– Может быть. Уши у Маузера – видишь?..
– Большие, черные?
– Ага. А это ты танцуешь с Галей. Она так смотрит на тебя, как… и не знаю…
– Разглядела…
– Да. Специально за тобой следила… чтобы потом не отпирался.
– А от чего мне отпираться?.. С тобой же больше танцевал…
– Это потом, когда напился.
– Не напивался я.
– Ну, или выпил… И все под «Сумерки»… Как кто-то сходит и поставит эту песню, и ты уж там, около Гали… Сам и заказывал, наверное?
– Не помню.
Обнять пытаюсь – отстраняется.
– Словно сумерки наплыла тень, то ли ночь, то ли день… А говоришь, что не напился… Стихи мне на ухо читал. А ей?
– Стихи?.. Не помню… А какие?
– Какие… Разные… Заладил. Так и поверила те бе… Печатать будем?
– Ну, давай.
– Сколько успеем…
Туго на цыпочки взметнувшись, стала Таня на протянутый от оконного наличника до дверной притолоки шнур пленку пристраивать – чтобы сушилась. Пленка – в одной руке, в другой руке – прищепка. Сзади обнял ее – не убыла, а утончилась. Затылок теплый, будто пах. Уткнувшись в волосы, вдыхаю. Так вкусно пахнут – мылом, кемской водой… чем-то еще… неуловимым.
– Таня, – зову.
Молчит.
Неуловимое – она.
– А чё на той? – спрашиваю.
– Какой? Что уже вставила в увеличитель?.. Там мы с тобой, – говорит Таня. – Почти вся лента…
Печатать стали, словно ворожить.
Наворожили.
Кеми излучины, ее плеса и перекаты; сосны в бору и на обрывах; кучно лежащие на буром ковре палой хвои взъерошенные сосновые шишки; в рост человеческий, огромный муравейник; Черкассы; Камень; небо – в нем коршун – черточкой, едва заметной. То я, то Таня. На яру. На нашем месте. Тут же – к экзамену готовимся. Вот мы вдвоем, щека к щеке. От наших лиц одни носы и подбородки – снимались мы на автоспуске. Таня в купальнике, и я в трусах.
– Смешно, – говорю.
– Ага, – говорит Таня. – На память сохраним?
– Конечно!
– Или порвем?
– Да нет, ты чё?!
– Лучше порвем.
– А я свою оставлю.
– Потом никто и не узнает, кто тут… чьи это подбородки.
– Ну, мы-то будем знать.
– Конечно.
Часть отпечатанных фотографий налепили на глянцеватель, часть – на трюмо – потом отмою, – а остальные разложили на клеенке – чтобы потом наклеить на оконное стекло их.
– Свет, – говорит Таня, – скоро погаснет. Федю Поземских видела – едва его уговорила: до десяти небудет выключать… пока работают на ферме.
«Чай пить, – слышим, спрашивает тетя Надя, – будете?!»
– Нет! – отвечает Таня.
«Олегу надо – он простынет!»
– Будешь? – спрашивает у меня Таня.
– Нет, – говорю.
– И он не будет!
«Зря вы это».
Погас красный фонарь.
Целуемся – когда совсем темно – и все иначе. И дышит Таня по-другому – будто не воздухом, а темнотой. И я тогда – как будто в ней. Не в темноте, естественно, а – в Тане. Мне хорошо тогда: я – взрослый.
В горнице загремела по полу тележка – дядя Петя, перебравшись на нее с кровати, к столу поехал – можно догадаться.
– Папка, – говорит Таня.
Отстранилась – упругая.
Ну, думаю.
Ковер сняла с окна. Еще светло на улице, но пасмурно. И дождь идет – уже не сильный.
– Ты не поможешь?
Помог ей ковер повесить на прежнее место.
– Пойдем? – говорит.
– Пойдем, – говорю. – А куда? – спрашиваю.
– Да хоть куда… На улицу куда-нибудь. Может – на Кемь?
– А дождь?
– И пусть.
– А чё с кукушкой, – спрашиваю, – будешь делать? Оставишь так?
– Да пусть торчит.
Кукушка вмялась. Дверь за ней закрылась.
Опять: ну, думаю.
Вышли из комнаты. Я брови сдвинул – вид серьезный.
Вижу: кровать. В кровати – ямка. А я в ямке – книжка вверхтормашки.
Иду и помню: «Половодье».
Все за столом. Ужинают. Дядя Петя сидит на диване, на подстеленной подушке. Тут же, около стола, на табуретке, сидит Федосья Константиновна. На столе картошка в мундире. Черемша со сметаной. В углу – иконы.
– Выкинь его на улицу, – говорит дядя Петя.
– Да сам уйдет… дверь-то открыта, – говорит тетя Надя.
Кот под столом, вокруг ножки бродит. Мурлычет.
«Были бы у дяди Пети ноги, – думаю, – пнул бы кота он непременно».
– К картошке-то, быть может, это?.. – Говорит дядя Петя, сдирая с картофелины шкуру. – То сухомяткой…
– С чаем вон, – говорит тетя Надя.
– Да чай-то – ладно.
Не настаивает дядя Петя.
Федосья Константиновна молчит. Или мне, или ей так кажется:
Тетя Надя очистила для нее, для баушки, картофелину, раздавила ее, картофелину, ложкой на блюдце – чтобы скорее остыла. Сметану ложкой положила.
– Баушка, ешь.
Жует Федосья Константиновна – шамкает. Забыла, как надо есть. Ложка на тарелке, руки ее, Федосьи Константиновны, у нее же на коленях. Губами только шевелит – впустую.
– Покормлю после, – говорит тетя Надя. – Петя, тебе картошки подложить? – И спрашивает: – Ну, не надумали?
– Нет, – говорит Таня.
– Так и гостя с голоду уморишь, – говорит тетя Надя. – А вы куда? Дождь-то на улице вон… не стихат.
– Уже стихает… Мы до Кеми.
– Да хошь плашшы-то на себя накиньте… така стихия.
– Накинем.
Дядя Петя ест. Большой – за столом. Самостоятельный: в руке держит ободранную картошку. Дует на нее – горячая. Из руки в руку перекладывает.
Солонка на столе – вижу.
Тетя Надя ест – баушку кормит. Ест баушка — с аппетитом.
Вышли мы из избы. Надели в сенях плащи. Таня – материн. Я – Витькин. В котором он охотится на уток.
Дизель затих. Деревня – как оглохла. В Ялани тоже дождь идет, наверное.
– А кто на дизеле работает?
– Федя Поземский… я же говорила. Пойдем?
– Пойдем.
– Тут – по задам, а не по улице.
Недалеко.
Таня в резиновых сапогах. Я тоже. В Витькиных, конечно. В которых Витька ходит на рыбалку.
На берег Кеми вышли.
Дождь – барабанит мне по капюшону. «И Тане», – думаю. Конечно.
Стоим.
Смотрю.
Выше по течению, из тальника дымок тянется – стелется по воде.
– Дядя Коля, – говорит Таня. – Каравайный.
– И дождь его не держит.
– Я тебя люблю, – говорит Таня.
Держу ее за руку.
– Олег, – говорит.
Рыба в реке сплеснулась. Крупная. Таймень.
– Рыжий, – говорю, – мотоцикл отремонтировал… С Маузером.
Внизу – Кемь; вода в ней – течет. Небо – из-за дождя – неясно отражается.
И Таня – рядом. Говорит:
– Дуську – сходим, может, – напугаем?
– Как? – спрашиваю.
– Да подберемся под окно…
Выше по течению, где тальник, – удилище поднялось – рыбка мелькнула, небольшая, серебристая.
– Поймал, – говорит Таня.
– Ну, – говорю. – Или сорожку, или ельчика.
Темнеет. Собака лает.
– Дяди-Колина.
Волосы у Тани выбились из-под капюшона – пегие: одна прядь – пшеничная, другая – соломенная.
Обнял. Прижалась.
– Пойдем, – говорит Таня.
– Пойдем, – говорю.
Идем огородом. Ботва картофельная – мокрая.
Заходим в ограду. Тихо. Забираемся через лаз на чердак.
Ни зги не видно.
Плащи сняли. Бросили. Взялись за руки – идем.
Медвежьей шкурой пахнет – мне привычно.
Разделись – молча. Легли. Лежим.
Фонарик китайский висит над кроватью – на проволоке – привязан. Знаю о нем – стукался лбом об него не раз.
Включила Таня. Смотрит.
– Мы… договаривались?..
– Да.
Достаю из-под подушки книгу. Шекспир. «Ромео и Джульетта».
– Дуська, – говорит Таня, – будет поступать в педагогический.
– Она же, – говорю, – с тобой в Исленьск хотела ехать… в медицинский.
– Крови боится.
– У… тогда…
Стучит дождь по крыше – отдается. Пахнет тополем. И – Таней.
Колотить меня начинает. Почему-то. Не привыкну. Если это от счастья, думаю, то это плохо.
Раскрыл я книгу на закладке и говорю:
– Я, помню, в детстве картинки в книжках рассматривал через увеличительное стекло – будто присутствуешь.
Читаю:
О, ты не прав по отношенью к ней.
Не подпуская Купидона стрел,
Она Дианы предпочла удел,
Закована в невинность, точно в латы,
И ей не страшен мальчуган крылатый…
– А Рыжий куда? – спрашивает Таня.
– В армию, – говорю. Читаю:
Не поддается нежных слов осаде,
Не допускает поединка взоров
И даже золоту – святых соблазну —
Объятий не откроет никогда…
– Мне холодно, – говорит Таня.