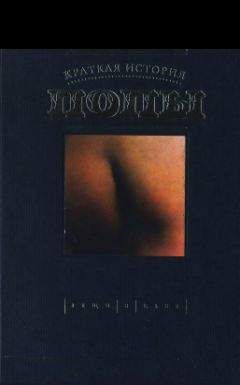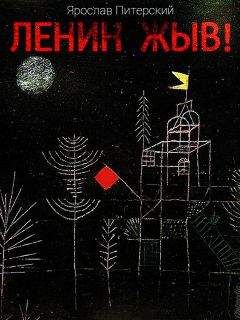Государь приоткрыл глаза, прислушиваясь, не пошел ли поезд. На стенах его кабинета-купе висели многочисленные фотокопии августейшей фамилии. Под потолком был прикреплен турник, на котором он мог подтянуться раз тридцать за один подход. В углу располагался обширный иконостас с почерневшим от копоти образом Спаса Нерукотворного. Жить бы в таком кабинете все время и никуда не ехать!.. Только чтоб дети были под рукой и рядом. А Александра Федоровна – далеко… Чур меня! Вот ведь что нашептывает лукавый! Сгинь, сатана!.. Изыди и расточись!.. Александра Федоровна – здесь, и дети тоже.
Ему показалось, что пошел проливной дождь. Что по крыше бьют крупные капли… Откуда дождь в первых числах марта, да еще такой проливной? Невозможно. Обрушился, отзвенел и затих. Государь заметил, что на окне его купе нет капель. Луч станционного прожектора освещал стекло, и капли на нем были бы заметны. Что за шум? Странно.
В дверь постучали.
– Ваше величество! Приехали депутаты Государственной думы.
– Зачем?
Министр двора граф Фредерикс печально вздохнул и не ответил. Не так давно он был введен в графское достоинство. Но кто из них выше, граф или барон, Фредерикс так и не решил, да и государь, похоже, тоже.
– Пусть подождут в гостиной.
Вот ведь черти! В дороге отыскали, в глубине страны нашли! Я и говорю: заговор кругом. Машина работает против меня и помимо воли. Она меня раздавит!..
Государю сделалось страшно. Он почувствовал, как мужество оставляет его. Вокруг – шпионы. Все гонят, все клянут… Мучителей толпа! Что я должен делать? Ведь они, пожалуй, придушат меня, как государя Павла Петровича, который заключил с Бонапартом сердечное соглашение и двинул на Индию казачьи войска атамана Платова. Если бы Павла Петровича не придушили, то и Индия была бы русской. Там, говорят, много обезьян и бананов. Охотились бы на слонов. Но тропические дожди на несколько месяцев… Эти нам совсем ни к чему. Лучше бы Японию присоединить. Но там ураганы. Тоже некстати. Нет. Не сложилось. Не срослось. Европа нам ближе. Там – одни наши родственники. С ними надобно заключить сердечный мир и договор о ненападении, как я предлагал до войны в Гааге. Удивительно, но все забыли о моем начинании. Война – крепкая память человечества и факт истории. Мир не задерживается в памяти и не попадает на страницы учебников.
…Он вошел в гостиную, по-военному подтянутый, в серо-зеленой черкеске и с таким же серо-зеленым лицом. Болтающийся на левом боку кинжал делал его похожим на кавказца. Граф Фредерикс готовился записывать исторический разговор. Хорошо. Пусть пишет. Двое думцев. Фамилии не помню. Ах да, это же Гучков, с ним я встречался несколько раз, а рядом кто? Этого совсем забыл, хотя лицо как будто бы знакомо.
– Не промокли по дороге, господа?
Гости переглянулись, не понимая.
– Ведь был дождь? Я слышал.
– Это не дождь, ваше императорское величество. Это…
Фредерикс кашлянул, пытаясь предупредить говорящего о нежелательности продолжения темы. Но Гучков все-таки докончил:
– Нам хлопали люди, собравшиеся на путях.
– Вас вызывали на бис?.. – и государь вставил в мундштук папиросу.
– Нет. Скорее, это был аванс.
– А может быть, они вызывали меня? Судя по аффектации, все билеты проданы. Полный аншлаг.
Николай Александрович закурил и сел сбоку у окна за небольшим столом. При людях он всегда вставлял папиросу в мундштук, но в одиночестве мог курить просто, по-солдатски, прикуривая от окурка, одну папиросу за другой.
Жестом пригласил гостей садиться рядом. Фредерикс поставил у окна кресла, и все присели тут же, за маленьким столом, четверо государственных мужей, бок в бок, будто хотели заняться столоверчением.
Василий Витальевич Шульгин, приехавший вместе с Гучковым, как гражданин и человек чувствовал торжественность минуты. Сеанс политического спиритизма обещал быть впечатляющим. Об этом потом напишут, как он, лысоватый киевский журналист, жалкий провинциал с огнем в сердце и химерами в башке, принимал отречение государя императора, чтобы спасти Россию и монархию. Спасти от ныне действующего государя императора. Звучит комично. Но разве Николаю Александровичу объяснишь то, что происходит сегодня в Петрограде? Не расскажешь, как незнакомая никому Россия, вооруженная и грязная, с кумачом над головой и ветром в самой голове, заполнила залы Таврического дворца… Серо-рыжая солдатня и черная рабочеобразная масса с грузовиками, похожими на дикобразов от поднятых вверх штыков… Это была весенняя вода черного подтаявшего снега. Она выдавила депутатов Государственной думы из главного зала на периферию, в кабинет Родзянко, и начала проводить во дворце непрекращающийся митинг. В кабинете, где раньше заседала бюджетная комиссия, расположилась странная компания небритых людей, которая называла себя совдепом. Ораторы сменяли друг друга. Говорили сбивчиво, непонятно. Но внутри каждого горела электрическая лампа, подсвечивающая одно-единственное требование: «Долой!..» Многие депутаты разбежались, а те из них, кто имел мужество остаться во дворце, сбились в кучу в кабинете председателя и в тесноте, в смраде, голова к голове, решали, что делать дальше… Как спасти Россию? И главный вопрос, который их мучил, – тождественна ли монархия родине, или это совсем разные понятия, несоразмерные друг с другом? Сам Шульгин отвечал на этот вопрос утвердительно: да, тождественна. Россия и царь – это одно и то же.
– И какую пьесу вы мне привезли? – спросил государь император, морщась и выпуская из себя сизое облако дыма. Вопрос явно был лишним.
– Мы вам привезли просьбу об отречении, – выдохнул Александр Иванович Гучков. Вид его был суров и сумрачен. Он чем-то напоминал дорогую, но закопченную сковороду, которой можно убить наповал… Вытащил из портфеля папку с одним-един-ственным листком внутри и передал Николаю Александровичу.
– Кто автор пьесы? – спросил государь.
– Русский народ, – с пафосом ответил Гучков.
– Но вы ведь от Думы ко мне пришли, а не от народа.
– Это одно и то же.
– Но если вы и народ нераздельны, то кто такой я и чьи интересы представляю?
Вопрос повис в воздухе. Некоторое время все молчали. Как странно он говорит, – подумал Шульгин. – Что за акцент? Когда подчеркиваются согласные звуки, а гласные с их округлостью и певучестью почти совсем пропускаются? Немецкий это акцент, что ли? Он же немец, наш царь. Но вдруг из глубины памяти выплыло – это же гвардейский акцент. Так его называют. Им разговаривают на плацу военные. Гвардейский акцент неотделим от его черкески. И почему он всегда одевается в военное? Меняет наряды, мундиры и папахи, а сам не меняется? Потому что сейчас война. Но он и до войны одевался точно так же. У него же воинское звание. Оттого и мундиры. Полковник или подполковник… я запамятовал. Скромен. Однако в этой скромности все-таки чувствуется маскарад. Сегодня он в горской папахе, завтра – в военной фуражке, послезавтра – вообще без головного убора. И может быть, без само2й головы. Бедный потерянный человек! Уходи от нас скорее. Играй в войну со своими детьми. Страна не для тебя. И война тоже. Убитые на ней не воскресают, как оловянные солдатики.
– Это вы должны решить сами, ваше величество, – наконец подал голос Шульгин. – Чьи интересы вы сейчас представляете… Если вам дороги интересы монархии и Отечества, то во главе страны должен стать государь, ничем не связанный с политикой последних лет и нашими чудовищными потерями в затянувшейся войне.
Хорошо сказал! Как опытный журналюга сказал. Пусть из окраинной Малороссии, а сказал. И почти без акцента.
– Полноте, господа… Победа над Германией – на расстоянии вытянутой руки.
Николай Александрович вопросительно посмотрел на Фредерикса, правильно ли он цитирует общее мнение. Тот кивнул.
– Но люди не хотят вас больше видеть на троне! – нервно произнес Гучков. – Волнения в Петрограде происходят во многом из-за ненависти к вам.
– Знаю. Мне докладывали. Но вся остальная Россия спокойна.
– Петроград сегодня – язык всей России, – сказал Шульгин. – Вам ничего не стоит игнорировать общее мнение. Но знайте: монархию и империю можно спасти только вашим отречением.
Николай Александрович близоруко посмотрел на картонную папку, в которой лежал текст его сего-дняшней роли.
– Вы, наверное, не ели с дороги, господа? Накормите их, – распорядился Николай Александрович. – Утро вечера мудренее, завтра всё решим. Ко всеобщему удовлетворению сторон…
– Время не терпит, ваше величество. Подумайте о безопасности собственной семьи, – с трудом выдавил из себя Гучков, будто давил ваксу из засохшего тюбика.
Государь внутренне содрогнулся.
– Еще сутки, и мы не сможем удержать ситуацию… Каждый час дорог.
Николай Александрович почувствовал внутри себя панику. Слова о семье были более чем неприятны. Как будто к старому ожогу приложили горящую спичку.