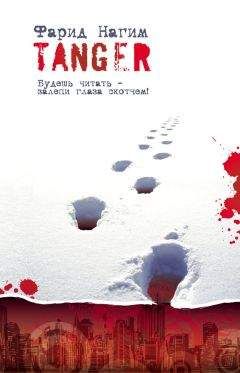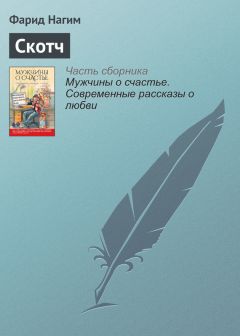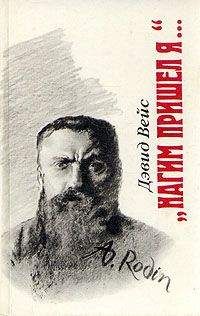Ознакомительная версия.
– Другой раз его нечаянно в санатории в холодильнике закрыли.
– Зачем? Как это? – устало интересовался я.
– А он хотел посмотреть, как огонек свечки замерзнет.
– Интересный ребенок.
– Вот только не женился, а хорошие девушки к нему приезжали, вот была Лариса, она мне тоже нравилась.
И вот я шел и наслаждался своим одиночеством. Утренняя набережная, как вымытая и спрыснутая из пульверизатора комната, огромный платан, заброшенная киностудия, приморский парк, я бежал все дальше и дальше, в другую сторону от Массандровской улицы, словно бы хотел пересечь эту странную границу, постоянно отдаляющую от меня мой самый любимый город на земле. Уставал, шел и снова спешил. Пустынные, какие-то промышленные пляжи, бетонные блоки, арматуры, металлолом…
Я прошел еще несколько шагов, ослепленный этим ударом… потом еще несколько шагов. Что это? Этого не могло быть! Какая-то бессмыслица. Это было явное нарушение человеческих законов, разлом… И все замерло, когда стало ясно, что я застал все это врасплох, словно бы увидел мир с перерезанным горлом, с завернутой к ушам кожей. Что это? Опорные стены. С БУН ПРЫГАТЬ ЗАПРЕЩЕНО! В ШТОРМ КУПАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО! И я, и безмятежные ОНИ, никто из нас не знал, что теперь делать и как дальше жить. С БУН ПРЫГАТЬ ЗАПРЕЩЕНО! В ШТОРМ КУП… Так доступно, небрежно открыто, как в концлагере… С БУН ПРЫГАТЬ ЗАПРЕЩЕНО! NUDE и перечеркнутые трусы. В ШТОРМ КУПАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО! NUDE и перечеркнутые трусы.
Они валялись там и сям, как кожаные тряпки, комки, кульки и мешки, более целомудренные, чем если б они были в купальниках, более голые, чем они могли быть на самом деле, голые, как абсолютная правда. Странность и отчаяние в том, что это было абсолютно не постыдно, нисколько не развратно, и эта пустота нежелания в груди, будто я лизнул язык своей матери. За моей спиной, равнодушно посвистывая и глядя в сторону, стоял уличенный мною весь цивилизованный мир, с фотошопом, кисточкой и купальником в руке. А впереди, отчерченные кромкой прибоя, на серой и грязной гальке промышленного пляжа валялись они, невозможно утратившие все свои формы, словно бы их вынули из матрицы, в особенно удобных им, расслабленно-натуральных и потому особенно нестыдных и обидно не развратных позах. Мучительно не стыдных. Молоденькая девушка с мальчишеским пупком лежала, развалив длиннокостные колени, в странном надрезе торчал и блестел уголком на солнце этот розовый мясной лепесток. Поодаль нечто новое и мультипликационное спиной ко мне. Кожаные кармашки, округлые куски мяса свисали по бокам, синие морщинистые соски, двигались и встряхивались сальные пояса, жидко расползалось по гальке то, на чем они сидели. Словно они сняли свои женские костюмы, спрятали их, чтоб не портить на солнце, и теперь вот остались в настоящем виде. Они замечали меня, смотрели и не видели, как дальтоники. Одна из них, со странным горбиком на шее, была в бейсболке и курила сигарету, это был какой-то абсурд. Другая листала «Vogue». И этот журнал, и сигарета, и сигаретный дым казались одетыми.
С БУН ПРЫГАТЬ ЗАПРЕЩЕНО! NUDE и перечеркнутые трусы.
Сегодня они сдали мне одну из тайн. И эта новая, гнетущая пустота в груди. Я вспомнил Няню, все ее постепенное и предсказуемое поведение женщины, ее странные отношения с Татуней, и почувствовал, что теперь я начал видеть швы жизни. Я вспоминал Асель, ее маму, «АСМО-пресс», юношескую любовь, обыденность гомосексуализма, «Связь-банк», СТД, ложь, тщету, нехудожественность и пошлую закономерность земного устройства и воочию увидел в воздухе эти грубые стежки и концы белых ниток.
Что-то скрежетало, и вскрикивали чайки. Дорога к моему самому любимому городу на земле бильярдным закрученным шаром укатывалась и плавно срезалась опорной стеной. А я брел назад.
Что-то творилось с банками и киосками обмена валют.
Словно бы еще одно мелкое подтверждение всему, чего я подсознательно ждал и предсказывал с уверенностью идиота – рухнул российский рубль и вместе с ним некий мифический класс некой мифической страны. И появилось новое, ничего не объясняющее, но жизнеутверждающее и успокаивающее слово – дефолт.
Отнял полотенце от лица, в зеркале подпрыгивали и улетали виды. Этот резиновый разжиженный туалетный запах, вода, пахнущая железными внутренностями поезда. Хлопнула дверь тамбура, прокричал мимо локомотив, и показалось, что едем наоборот. Глухонемые, торгующие прессой. Наверное, они слышат, просто устали от тупого общения.
Снова купить воды Няне, а эта вода плохая. Закрыть окно, чтобы не просквозило Саньку. Опустить задвижку на окне. Мешает матрас. И вдруг злоба. И злой внутри, я вслух сказал:
– Какие тонкие стволы сосен в лесу, как дождинки.
– Что? Узнай, когда Харьков…
В Москве, как всегда, шел дождь. От вокзала ехали на машине. Старик водитель, скрывая радость, ватным голосом говорил о падении рубля. Ему было особенно радостно, потому что у него дочь живет в Италии. А у меня растерянность и страх. А у Няни энергия и блеск в глазах, она дергалась, явно жалея, что нет с собой мобильника.
Татуня, как и все люди её поколения, как и все неудачливые «демократы», радовалась падению рубля и с приятным ознобом ожидала возвращения ненавистных коммунистов, закрытия границ и так далее. И потряхивала книгой Сорокина в руке.
Из-за денежных перемен в стране снова дорогие сигареты. Больше людей стало возле лотереи. Быстро меняющиеся цифры курса валют на обменниках.
Вдруг резкий телефонный звонок.
– Татуня, ты знаешь Машку Саратовскую? – испуганно спросила Няня, держа трубку прижатой к груди. – Её сейчас привезут… её сестре в обменнике горло перерезали, а на смене должна была быть Машка.
– Саньку выведи, – Татуня вставила сигарету в мундштук и ушла к себе.
Няня быстро одела и вывела Саньку во двор. Стало тихо.
– … а-а-А-А-А!
Её вели под руки двое мужчин. Она подгибала колени и вся вываливалась вперед себя. Весь налет слетел с нее городской. Какое-то мокрое пятно и крик древней обезумевшей бабы.
– А ну-ка хватит орать! – громко и противно приказала Татуня.
И на глазах изумленных мужиков сильно ударила ее по щеке. И в этом мокром пятне вдруг проявились черные глаза и нахмуренные брови. Её пронесли в большую комнату и уложили на диван. Татуня присела рядом. Я стоял в комнате Няни.
– Закрой глаза, – говорила Татуня. – Тебе тепло, ты лежишь на солнечной поляне и тебе тепло, колышется трава и цветы, птицы щебечут в ветвях и тебе спокойно и тепло, где-то далеко ты слышишь шум моря… Ты видишь картину, из которой льется свет и тепло, ты видишь эту картину на стене, видишь? Хорошо…
Я знал, что в этой комнате вообще не было картин. Когда я вошел через пять минут, Машка спала, как испуганная мумия.
С седьмого сентября работаю грузчиком-сборщиком в магазине мебели.
– Двести долларов тебе положу, пока, – сказал начальник и махнул рукой.
Тридцать рублей каждый день дают на обед. Работаю в паре с московским хохлом Иваном.
– Сегодня двадцать – двадцать один обещали, – сказал я ему.
– Что, доллар?! – испугался он.
– Да нет, прогноз погоды, бля.
– А-а…
– Чего зеваешь, не выспался?
– Да ты зазевал, и я зазевал.
– А-а…
Огромные двухъярусные кровати стояли над городом. Я лежал наверху и когда шевелился, чувствовал шаткость своего положения. Там, где дорога уходила вниз, парень в шляпе махал мне рукой. Я оглянулся – на соседней кровати лежала Асель, ее испуганное и заплаканное лицо. Во мраке под нами и вокруг сияли огни ночного города. Мужик с дубинкой проверял документы.
«Надо сказать Асель, что у меня уже другая женщина, что я не смогу с нею снова жить».
– Ты что, снова с ней?! – удивленно искривил свое лицо Юрка.
Он был в шляпе, и меня поразило, какое у него чистое и свежее, как у юноши, лицо.
– У меня миома матки, – сказала Асель и зарыдала.
«Какой ужас, что же делать… надо ей все-таки сказать… что такое миома матки… денег нет как всегда».
В ужасе я прижался к гранитной стене.
– Где тот перстень золотой, который тебе бабушка давала?
Бабушка стучит пальцем по перстню.
– Она его не давала мне, Асель! Просто показала его, сказала, что это перстень твоего дедушки и все… что же делать.
– Да это обычная женская болезнь, полгода уколы делать…
«Слава богу, Юр, я думал, что это рак какой-то… но все-таки надо же ей сказать, что я с другой»…
Тишина, почему поезд так долго стоит на станции? Проснулся и вспомнил, что я уже давно расстался с Асель и приехал в Москву, уже с Ниной.
По утрам Нина ловила мой член губами, а я лежал, прижавшись затылком к стене.
Приятно было с этим суровым чувством в душе собираться на работу. Отводить Саньку в детский садик. Ехать вместе со всеми по общественно-полезному делу. Вот и я завоевал свое право ехать в метро, серьезно читать «МК» и считать себя москвичом. В голове пустота и короткие, семейные мысли и песни, типа: «Пилот, пилот, я инопланетянин».
Ознакомительная версия.