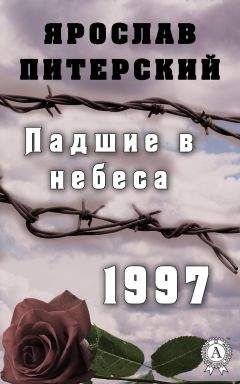Павел даже не помнил, как он дошел до камеры лазарета. Конвоир едва за ним поспевал. Клюфт буквально бежал по тюремным коридорам. Он убегал от самого себя. От Веры! От их страшного и, наверное, последнего в жизни свидания, в том кабинете у молодого и циничного следователя с красивыми, но немного злыми глазами.
Клюфт почувствовал, что кто-то дотронулся до его руки, в которой было зажато письмо. Павел вздрогнул.
– Паша, что-то, вижу, у тебя случилось. Совсем страшное. Тебя что, на суд водили? – послышался шепот Спиранского.
Павел нехотя открыл глаза. Старик сидел рядом с его кроватью. Он забавно выставил вперед свою загипсованную ногу. Евгений Николаевич виновато всматривался в глаза Клюфта. Инженер словно извинялся за вторжение в это мысленное одиночество… Но Клюфт не разозлился. Нет, да и злиться у него просто не было сил.
– Что там случилось, Паша? Тебе зачитали приговор? – вновь прошептал Евгений Николаевич.
Клюфт тяжело вздохнул и нехотя ответил:
– Нет…
– А, что тогда?!
– Просто, просто меня лишили жизни…
– То есть как? – Спиранский вновь дотронулся до руки Клюфта.
– Вот так. Просто взяли и лишили. Как-то очень быстро и обыденно. – Павел грустно ухмыльнулся и покосился на свою руку, в которой было зажато письмо от Веры.
Спиранский тоже посмотрел на бумажку:
– Ты получил какое-то очень плохое известие? От кого? От матери?
– Евгений Николаевич. У меня нет матери и отца. Я же вам говорил.
– Ах, да-да! – виновато забормотал старик. – Я совсем забыл. Совсем забыл. Что тогда, от кого? От девушки, от твоей любимой девушки? – всхлипнул Спиранский.
Клюфт не ответил. Он закрыл глаза и отвернулся. По щеке скатилась слеза. Она застревала в небритой щетине и немного жгла кожу. Горячая вода! Почему человек плачет? Почему? Чтобы это видели другие? Чтобы они жалели его? Или чтобы радовались его беспомощности и слабости? Зачем?
– Павел, ты прости меня, старика, что я вмешиваюсь, но тебе сейчас не надо замыкаться в себе. Не надо. Поговори со мной. Так легче будет… – ласково, по-отечески, сказал Спиранский.
– Хм, зачем? – буркнул Павел, не поворачивая головы.
– Как зачем, чтобы жить!
– Зачем? Зачем жить? – прохрипел Павел.
По его щеке вновь скатилась слеза.
– Паша! Ты брось! Брось! Тут каждый второй через это прошел! И каждый второй через это пройдет! Жить надо! Жить надо хотеть всегда, как бы мерзко это не казалось! Как бы трудно это не было! Жить надо!
Клюфт тяжело вздохнул. Он повернулся и, открыв глаза, посмотрела на старика. Благородное лицо с впалыми уставшими глазами. Щетина на щеках. Прямой красивый нос. Немного вздернутый подбородок.
– Евгений Николаевич, а вы любили?
– Мальчик мой! Конечно! Конечно, любил и не раз! – ухмыльнулся старик и погладил Павла по руке. – И письма разные получал. И такие, когда мне барышни писали, что все, мол: так и так, милостивый государь, мы с вами больше видеться не можем. И так далее! И тосковал! И вешаться даже хотел! И застрелиться! Но! Все это от лукавого, Паша! Все!
– Нет, вы меня не поняли, а вы любили, чтобы вот больше жизни? Своей жизни?
– Хм, наверное, – задумался Спиранский.
Он опустил глаза в пол и тоже тяжело вздохнул:
– Я и сейчас люблю. Свою жену. И своих детей. Правда, вот они за границей. Я даже не знаю, где. Не то в Париже. Не то в Брюсселе.
– А вы бы смогли их любить, если бы они от вас отреклись? Ну, написали бы вам, так и так: ты нам больше, отец, не нужен? Смогли бы вы их после этого любить?
Спиранский задумался. Он грустно улыбнулся и, вновь тяжело вздохнув, грустно ответил:
– Конечно, Паша. Конечно. Любовь, она ведь не заключается в том, чтобы обязательно получать ее назад. Прелесть любви, Паша, в том, чтобы отдавать ее безвозмездно, просто так! А когда ты ждешь взаимности, это уже не любовь. Взаимность должна прийти как-то автоматически, или не прийти. Но от этого любовь не может перестать быть любовью. Поэтому я всегда буду любить своих детей и жену, как бы они ко мне ни относились. А ты, я вижу, письмо получил?! От девушки? Она от тебя отреклась?
– Да… – Павел закрыл глаза.
– А, что она написала? Что?
– Я не читал…
– Как так?! Надо прочитать! Может быть, все не так, как ты думаешь?!
– Я чувствую. Я видел ее взгляд…
– Тебе устроили с ней свидание? – удивленно воскликнул Спиранский.
Павел промолчал. Но старик воспринял это, как положительный ответ. Евгений Николаевич покивал головой. Ласково добавил:
– Ты прочитай, Паша. Прочитай. Письма нужно читать. Даже самые страшные. И читать их нужно несколько раз. Искать, искать что-то между строк. Даже в самом плохом письме есть что-то между строк, что может порадовать. Главное это найти…
Спиранский по-стариковски крякнул и, вздохнув, проскрипел:
– Эхе, мхе! Мне бы твои годы!
Павел вздрогнул и потянулся к Спиранскому. Он протянул ему письмо и возбужденно спросил:
– А что бы вы сделали, Евгений Николаевич? Что бы вы сделали, если бы вам прислали такое письмо? А?! Сейчас вот взяли и прислали?! В этой ситуации? В этот момент? Вы говорите красивые слова утешения. Но мне интересно знать, как вы сами поступили бы? Влезьте в мою шкуру! И ответьте мне искренне!
Инженер ответил не сразу. Он посмотрел на свою загипсованную ногу. Затем взглянул на темный и закопченный потолок тюремной больничной палаты. Ухмыльнулся и лишь, потом пробубнил:
– Смотря, что бы я хотел. В эту секунду. В эту минуту. В этот час. Смотря, что я бы хотел сделать. Или хотел, чтобы происходило или не происходило.
– Это как?
– А так. Вот ты хочешь, чтобы она тебя любила? Хочешь?!
– Ну конечно! Конечно, ведь у меня кроме нее никого нет. Нет!
– Ну, так пусть она и продолжает тебя любить, а ты ее! Пусть!
– Что это значит? – не понял Клюфт старика.
– А-то и значит. Мало ли что она там тебе написала! И кто ее заставил! Я вон завтра могу написать, что Пермяков Ванька хотел товарища Сталина убить, ты в это поверишь? А?! Или товарища Ежова задушить?! Поверишь? Или вон мне говорят: ты, мол, германский шпион? Что мне, верить что ли? А? Ерунда это все! Время нынче не то, верить людям! Даже самым близким! С первого раза нельзя сейчас никому верить, даже самому себе! Понимаешь, страшные времена, Паша! Мгла вокруг! Одно вранье, мерзость и безбожие! И тут любой, любой может сломаться или сделать вид, что сломался! Для того чтобы все-таки выжить! Или остаться человеком! Или сохранить любовь! Вот так-то, Паша! А ты! Я так тебе скажу: просто не читай письмо! И считай, что все у вас так, как и было! Не читай!
– А что ж мне с ним делать-то? – растерялся Павел.
– Сожги его! И все! Или порви!
Павел опешил. Он внимательно посмотрел на старика, разжал руку и взглянул на смятую бумагу. Сглотнув слюну, медленно попытался расправить листок, но тут, же скомкал его.
«Сжечь письмо! Сжечь и не узнать, что в нем?! Как все просто! Сжечь плохую и ужасную весть! Сжечь и забыть! Гениально и жестоко! Жестоко? К кому? Нет! Это спасение! Вера! Верочка! Она любит меня! Она ждет меня! Зачем мне знать, что она пишет? Пусть она останется в моей памяти такая, как есть! И эти страшные строчки, что они дадут?» – лихорадочно подумал Павел.
Он протянул бумажку Спиранскому и сказал:
– А вы мне поможете?
– Конечно! – радостно отозвался инженер. – Эй! Федор! – позвал он Попова.
Железнодорожник, который сидел возле своей кровати, угрюмо посмотрел на старика и буркнул:
– Что надо?
– Ковыляй сюда! Спички есть?
– Ну, есть! – Попов со вздохом встал с табуретки и, взяв костыли, шагнул к кровати Павла.
– Давай! – Спиранский радостно вырвал из руки Павла письмо.
Еще несколько секунд и бумага засветилась рыжим пламенем. Огонь, словно хищник, пожирал листок. Черный пепел сыпался на бетонный пол.
– Лучше бы на самокрутки пустили! Здесь каждый клочок на вес золота! – проворчал железнодорожник.
– Нет, эту весть нельзя курить! Вредно! Слишком много дерьма мы внутрь и так глотаем! А тут еще плохие вести! Нет! Я тебе лучше вон газету у санитарки выпрошу! – Спиранский размел здоровой ногой по полу все, что осталось от письма.
Довольный своей работой, он похлопал Павла по плечу и сказал:
– Ну, а теперь немного поспи. Поспи. Тебе отдохнуть надо…
Павел отвернулся к стенке. Он закрыл глаза. И ему стало легче! Словно кто-то невидимый снял страшный груз ощущения потери Веры! Потери ее любви!
Клюфт, вслушивался в звуки тюремного лазарета. В помещение шептались люди. Его однопалатники старательно пытались не шуметь, чтобы не мешать, ему спать. В коридоре слышались крики и ругань. Звенели металлические решетки и лаяли собаки. Павел вдруг захотел увидеть небо, обычное голубое небо.
«Интересно, какое оно сейчас? Наверное, облака, которые проплывают над тюрьмой, пытаются закрыть его синь. Но небо, то и дело проглядывает сквозь эти белые или серые бесформенные одеяльца. Небо! Какое оно? Какое оно сейчас? И что там, в его глубине. Ученые говорят, там, за небом, космос! Там необузданная даль вселенной. Там холодно и ничего нет! Но, а дальше? Ведь вселенная когда-то кончается? Где ее грань? Она же не может быть бесконечной? Не может быть безразмерной? Да и вообще, кто ее сотворил? Неужели Бог? Бог смог сотворить бесконечность? Необъятность? Но на что Богу бесконечность? На что? Зачем ему необъятность? А они с Верой лишь песчинки в этом огромном пространстве? Неужели Бог, если он есть, знает и про них? А есть ли вообще ему дело до них? Вот мне же нет никакого дела до песчинки, которая валяется где-то в углу камеры на полу? Что мне до нее?» – Павел немного напугался объемом своих мыслей.