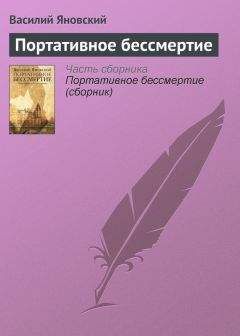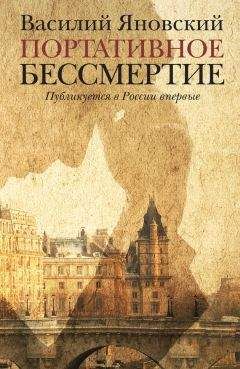3
Собрание было назначено в восемь с половиной. Не успел Дингваль – качающийся от непривычного напряжения гигант – сбросить айсберг своего халата (я еще умывался), как позвонили: Свифтсон и Спиноза; а за ними, очевидно, встретившись у ворот, – профессор Чай и Савич. Дингваль подал свой знаменитый салат из сорока двух корешков, плодов и овощей – эликсир добродетели, как его прозвали, – и мы все, за исключением профессора Чая (которого я еще никогда не видел за едой), молча начали уплетать, цедя из пузатых стаканчиков розовое винцо. Пригубил даже профессор Чай, как делал всегда в обществе Савича (последний страдал русским, дореволюционным пороком, причем от двух глотков хмелел, тогда как мы легко могли бы выпить по литру и были к вину равнодушны, – этим еще раз подтверждая «зеркальную» теорию Жана. Вот почему при Савиче профессор Чай, из своеобразного такта, всегда опорожнял стакан-другой). Савич же, в случаях, подобных настоящему, когда полагалось владеть всеми своими способностями, к рюмке не прикасался, уверяя, что легко совсем не пить, трудно только – не продолжать. Мы боролись в одиночестве, каждый по-своему, каждый за себя, не доделывая, не подбирая всего, роняя поднятое. Пока однажды – сразу у многих – не родилась мысль: сочетать наши усилия, упорядочить, может, организовать общество. Разговоры велись, периодически то стихая, то снова оживляясь, неясные, противоречивые. Наконец Свифтсон решил, что следует собраться, попробовать набросать схему, первый план нашего предполагаемого братства, и взял на себя этот труд. «Липен, наверное, придет», – сообщил Свифтсон, принимая вторую порцию салата. Свифтсон – огромный, бычьей силы, рыжий, сорокалетний холостяк. За ним сложное прошлое: прадед, в героическом веке, разошелся с законом, эмигрировал в Америку; отец вел дела с Россией, куда и переселился; Свифтсон-юноша проделал весь русский путь (от Вологды до Владивостока). Среди своих предков он насчитывал несколько флибустьеров, дровосеков и пионеров, а по материнской линии одного святого – ирландской церкви. Все собравшиеся здесь – Дингваль, студент, мулат с Ямайки, чемпион кача, подвизавшийся на аренах столичных цирков, в Польше принявший еврейство, через хасидов пришедший к христианству; Михаил Спиноза из Галиции, чья оливковая кожа подвергалась действию синайских реактивов, только недавно снявший рясу римско-католического священника; профессор Чай, подкидыш, найденный у ворот храма Шинто в Корее, бывший инструктор американской полиции, учитель жизни и джиу-джитсу, – носил пояс 9-го ранга, – он учил: перед борьбою опускаться на корточки, становиться на четверенки, бить челом перед своим высоким противником, застыть в медлительном, харакирически-христианском, смиренном, мужественном поклоне – признание собственного несовершенства, просьба о прощении, – а потом встать к борьбе беспощадной и быть уже неуязвимым; баварец Липен с длинными, светлыми кудрями, тонким лицом и глазами XIX века, он играл на скрипке, молчал, и с первого взгляда все знали: вот великий музыкант, поэт или в этом роде; он напоминал тех юношей, которые выходили из родительского дома с дорожным мешком за спиною, имея только смену белья, доброе имя и материнское благословение, а в ушах привычно поют органы, философские системы незримо воздвигаются в корчмах, поэмы и хоралы зреют у прибрежного камыша… – все, что здесь собрались, были офицерами, где-то командовали отдельными армиями или судами, уже выиграли хоть однажды решительную жизненную баталию. Двое бесспорно главенствовали: Жан и Свифтсон. Остальные временно подходили ближе то к одному, то к другому, в зависимости от рода занятий (Свифтсон – инженер), от языковой группы и от разных, сложных, невесомых атомных притяжений и отталкиваний. Несмотря на общность интересов и планов, трудно даже вообразить большее противопоставление, чем оба они: Жан Дут приковывал к себе внимание в любой толпе, сразу выдвигался, отделялся, занимал атаманское, ведущее место, его слушались (но боялись или не доверяли). Свифтсон выглядел серым, будничным, пресным, напоминая немного протестантского пастора; требовалось много времени и деловой близости, чтобы его заметить, признать (но тогда – непоколебимо). Мы еще ели десерт – фрукты, йогурт, – когда вошел Липен. Уже обедал. Скромно уселся в сторонке (всегда на отлете, молчаливый, внимательный, стройный, похожий на средневекового рыцаря, мечтающего о постриге, на монаха Возрождения, отвернувшегося от Церкви). Его фигура, лицо (тонкое, бледное, мужественное), светлый, зверино-серьезный взгляд и волосы льняные, длинные излучали, испускали короткую, бесхитростную мелодию: незримая флейта, до смешного, до слез явственно звучала из его угла. Жан открыл собрание. Свифтсон бережно разложил перед собою на краешке стола блокноты, листки, тетради; то читая по рукописи, и тогда медленно перебирая страницы, распределяя, откладывая, то (постепенно все чаще) надолго отрываясь от бумаг и запросто беседуя, радостно, веско заглядывая каждому в глаза, – он выговаривал слова не торопясь, четко, хладнокровно (точно давно пережитое), но иногда вдруг смущенно смолкал или начинал спешить, снова утыкаясь в тетради.
1) Мы должны быть святы, – так начал Свифтсон. – Для того чтобы влиять на других, по моему последнему, внутреннему убеждению, остался еще только один аргумент: личная жизнь. Мы должны быть святы. Не потому, если угодно, что мы естественно тяготеем к ней, что о ней свидетельствует наш духовный опыт или что она предписана свыше, – все спорно. Бесспорно следующее: только святость может еще оказать стойкое влияние на человека, очистить воздух, которым он дышит.
2) Мы соберемся в Новый Монастырь. Этот монастырь я мыслю посреди площади. Между улицей и нами нет ограды, нет дверей. Конвульсия города, клокотание крови, испарения страстей пронизывают нас непрестанно. Мы должны поглощать эти ядовитые газы, как некий универсальный, химический раствор, нейтрализировать и упорно посылать в обратном направлении уже другие сигналы и лучи (на пол световой волны позже – интерференция). Парами, с утра до рассвета, издалека узнаваемые, идем по улицам и бульварам, по площадям и рынкам, спускаясь в подземелья, поднимаясь на восьмые этажи, неустанно вплетаясь в косную материю жизни, переходя от дела к делу. Мы молчальники. Наша проповедь – милосердие: немедленное, бесплановое, насущное, мудрое вмешательство.
3) Мы оказываем помощь встречным не потому, что считаем страдания бессмысленными, и, разумеется, мы их всех – последствия – не сможем устранить. Мы становимся рядом со страдающим, протягиваем ему наше сердце, дабы он не чувствовал себя больше сиротою ( de profundis clamavi [13] ): тогда его душа благостно согревается, а вместе с этим меняется структура мира. Давая нищему медяк, все знают: явная помощь равна грошу. Но те, что видят: вот вы неожиданно стали среди общего, озабоченного бега, порылись в кошельке, вернулись вспять на несколько шагов и, стесняясь, вручили… те вдруг слышат тихий благовест; они обоняют запах возможного эдема, умиленные, что-то в них расцветает: «Нет, – прорывается, – не одинок человек в этом мире, пусть мерзость, жадность, преступления, сладострастие, поножовщина, пусть, пусть все, но тем чудеснее эта распустившаяся на асфальте роза милосердия, что-то есть еще, еще есть неописанное под этим небом, за нашим окном, частоколом, порогом, благословен Бог и помнящие родство». Вот что произошло во вселенной после грошика, и, хотя все тотчас же разбежались, через минуту море сомкнулось, но разные нити уже переплелись, связались, и многие круги пошли во все стороны, значение которых для нас – безусловно. Мы творим конкретное, чтобы – рикошетом – показать на мгновение третьим, свидетелям, контуры скрытого неба, донести к ним голоса. И они благословят бытие, умилятся помнящим единство, почувствуют освежающий запах добра, вкус любви – вовлекутся, наконец, сами. Таким образом, наша задача не исчерпывается простым оказанием помощи: мы должны стараться создавать такие положения, где бы один встречный мог радостно услужить другому – приобщиться. Беспрерывным потоком заботливости, дождем нежности мы станем поливать площади и рынки, улицы и скверы, купая, согревая замерзшие сердца. О, они только и мечтают, они жаждут оттаять: страшно, скучно, убийственно жить без этого счастья, – вы знаете по себе. Бессознательно все только ждут попутного ветра, точки приложения, места за рычагом. Создавайте этот ветер.
4) Мы кочуем из квартала в квартал, постепенно в каждом участке образуя что-то вроде центра, штаба, с растворенными настежь окнами и дверями. Избегайте рекламы, отвлеченных споров и помощи через третьи руки: только видевшие вас непосредственно на работе видели, узнали вас – и запомнят. Поэтому: мы всё умеем делать. XX век еще не знал такого скопления разносторонних специальностей под одною кровлей. Непрестанно трудясь, мы можем овладеть всей современной культурой и техникой. Исправить заглохший мотор, погрузить тяжесть, принять ребенка у внезапно рожающей, крестить умирающего младенца, проплыть 1000 метров на спине, защитить подсудимого, пропеть арию из «Фауста» на перекрестке, сыграть «Реквием» в публичном доме – вот гамма!