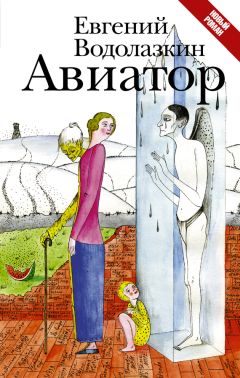Ознакомительная версия.
Забавная штука – компьютер. Оказывается, на нем можно печатать, как на пишущей машинке. И – исправлять. Главное, исправлять, как будто и не было ошибки – без нервотрепки, без утомительных подчисток на пяти экземплярах. Машинистки бы обзавидовались. В компьютере можно хранить тексты, с компьютера можно читать. Буду учиться печатать.
По совету Гейгера читал статью “Клонирование” – что-то в духе Герберта Уэллса. Я не очень понял там про “ядра” и “яйцеклетку” – что и куда пересаживали. Понравилось про овцу, выращенную якобы из овечьего вымени. Ее назвали в честь певицы Долли Партон, которая любила подчеркивать достоинства своего бюста. Гейгер считает, что описанное в статье (имею в виду выращивание овцы) – правда. Говорит, что знакомит меня с теми изменениями, которые произошли в мире, пока я был без сознания. Чтобы, стало быть, мое сознание подготовить.
Дал он мне еще почитать о крионике – статья не менее экзотическая. О том, как замораживают тела для последующего воскрешения. Есть что-то жутковатое в самой идее – независимо от того, существует ли такая заморозка в действительности. Если верить статье, замороженных людей довольно много, хотя живым никого пока не разморозили. В то же время какие-то опыты можно признать удачными. Куриный эмбрион несколько месяцев находился в жидком азоте, затем его разморозили, и сердце эмбриона забилось. До –196 градусов по Цельсию заморозили сердце крысы, когда же его разморозили – оно тоже забилось. Производили заморозку головного мозга кролика. После разморозки мозг кролика (а есть ли у кролика мозг?) сохранял биологическую активность. Наконец, до –2 градусов по Цельсию охладили африканского бабуина. В замороженном состоянии бабуин пребывал 55 минут, после чего был успешно реанимирован.
ПонедельникАнастасия. Удивительное имя – полногласное и нежное одновременно, три “а”, два “с”. Она сказала: “Меня зовут Анастасия”. Стояла надо мною, как Снежная королева, на новеньких коньках Галифакс, руки в муфте, посреди Юсуповского сада. Что она сначала произнесла? Всё помню: “Простите меня, пожалуйста”. Произнесла: “Вы не ушиблись?” А я – на четвереньках. Смотрю на ее коньки, на полы пальто и меховую оторочку, из-под которой едва-едва, на какой-нибудь вершок, ноги в рейтузах. В глазах моих круги от падения. Кровь из носа капает на лед, и это самое ужасное, самое стыдное.
Она наклоняется, нет, садится на корточки, достает из муфты платочек, прикладывает к моему носу: “Я вас сбила с ног, простите меня”. Пятно на льду расползается, я от стыда вожу по нему рукой, как бы стереть хочу, и ничего не получается. Оркестр продолжает играть, нас все объезжают, некоторые останавливаются. Платочек пахнет духами, весь в моей крови, а я всё не могу подняться, я первый раз на катке, и в моих глазах слёзы стыда. Она мне подает руку – теплую, из муфты, и я ощущаю ее всей ладонью. И вот одна ладонь моя на льду, другая в ее руке, и такая в этом противоположность, такое схождение теплого и ледяного, живого и неживого, человеческого и… Почему я сравнил ее со Снежной королевой? Ее красота тепла.
Она ведь меня и не толкала, это я от нее отшатнулся. Она быстро ездила, красиво – иногда одна, иногда в паре с другими гимназистками. Кажется, она была гимназисткой, кажется, да, кем же еще… Порою ездили по три, по четыре, скрестив друг с другом руки. До чего же красиво двигались их ноги – одновременно, широко, с режущим звуком. Я как надел коньки, целый час у кромки льда стоял, любовался катающимися, ею любовался. После сырой прохлады раздевалки, запаха деревянных лавок и пота – морозный ветер на катке, возгласы, смех, а главное – музыка. Когда оркестр заиграл “Хризантемы”, как же она танцевала, ах, как! С каким-то студентом, который, конечно, ей в подметки не годился, я на него старался не смотреть и видел только ее, и душа моя замирала.
С женщинами были связаны и другие (невольный каламбур) падения моей жизни. Вот я недавно описывал качание в гамаке. А запомнил-то я его потому, что сильно тогда разбился. Девочка так раскачала гамак, что я вылетел из него и ударился затылком о корень сосны. Тогда тоже кровь носом шла, и на затылке зашивали рану. Меня потом долго мучили головные боли…
Что после всего сказанного приходит в голову: в Юсуповском саду была не Анастасия. С нею, если ничего не путаю, мы познакомились в двадцать первом году. Уж какие в двадцать первом коньки! Почему я решил, что это была Анастасия?
ВторникСегодня я сделал хронологическое открытие – датировал мое настоящее. Датировал и – сам себе не верю.
Обычно Валентина приносит мне таблетки на подносе, а сегодня доставала их из коробки. Коробку забыла на моей тумбочке. Рассматривая необычную упаковку, прочитал: “Дата изготовления: 14.12.1997”. Подумал было, что опечатка, но увидел ниже: “Годен до 14.12.1999”. Неплохо.
Получалось, что сейчас либо девяносто восьмой, либо девяносто девятый годы – если, конечно, не используются просроченные лекарства. В какую такую аварию мог я попасть, чтобы оказаться в противоположном конце века? Что это – игра моего поврежденного сознания? Я был уверен, что у этих цифр есть какое-нибудь простое и разумное объяснение.
С трудом встал с койки и подошел к зеркалу у двери. Глубоко посаженные глаза, под ними круги. Глаза серы, круги сини. Складки от носа к уголкам губ – складки, не морщины. Считается, что это следы улыбок – в прежней жизни я, нужно думать, много улыбался. Темно-рус, ни одного седого волоса. Бледен. Бледен, но ведь не стар! В 1999 году у ровесника века должен быть совсем другой вид.
Вошел Гейгер.
– Доктор, сейчас девяносто девятый год? Или девяносто восьмой?
– Девяносто девятый, – отвечает. – 9 февраля.
Он совершенно спокоен. Короткий взгляд на лекарство:
– На упаковке прочитали? Я предложил Валентине оставить упаковку, такие подсказки приемлемы.
– Может быть, вы мне подскажете и всё остальное? Как я вообще сюда попал и что со мною было?
Улыбается:
– Подскажу обязательно, но говорить – не буду. Я ведь вам всё объяснял. Ваше сознание напоминает желудок после голодания, перегрузить его – значит убить. Как видите, я с вами откровенен в той степени, в какой это только возможно.
– Тогда скажите мне, что сейчас в России. Хотя бы в общих чертах.
Гейгер на минуту задумался.
– Диктатура сменилась хаосом. Воруют, как никогда прежде. У власти человек, злоупотребляющий алкоголем. Это – в общих чертах.
Да… Вот оно как, авиатор Платонов.
ПятницаДва дня мне не писалось, думал о сказанном Гейгером. И о девяносто девятом годе своем. Ничего не придумал, потому что в голове не укладывается. Вот, кажется, понял, принял, успокоился, а потом как бы очнулся, и снова – голова кругом. Прав Гейгер: если я еще что-нибудь новое сейчас узнаю, то, видимо, сойду с ума. Лучше думать о прошлом.
Была в Сиверской длинная такая Церковная улица, шла от мельницы, мимо церкви Петра и Павла, до дальнего мостика через реку. Поднималась от Оредежи и спускалась к ней же, сделавшей крюк. По этой дороге маршировал наш отряд. Небольшой был отряд, но вполне боевой и отлично экипированный. Впереди – знамя с двуглавым орлом, за ним – горнист с барабанщиком, а уж следом сам отряд. Бо́льшая часть дороги была ровной, на ней хорошо получалось чеканить шаг. Знамя развевалось, горнист трубил, а барабанщик, соответственно, барабанил. Так вот: этим барабанщиком был я. Для сиверских маршей папа купил мне барабан – настоящий, обтянутый кожей. В отличие от игрушечного, он издавал протяжный, звенящий и в то же время глубокий звук. И так хорошо, так сладко мне тогда барабанилось: трам-тарарам, трам-тарарам, трам-тарарам-пам, трам-пам-пам.
Заслышав нас, к заборам своих дач подходили отставные генералы. Они отдавали нам честь. На этот случай у генералов имелись выцветшие фуражки с кокардами, к которым они прикладывали руку. Всё, что ниже – стеганые халаты, вязаные жилеты и прочее невоенное имущество, – скрывалось за забором. Генералы долго смотрели нам вслед, потому что перед ними проходила их молодость. В их глазах стояли слёзы.
Куда мы шли и зачем? Сейчас я не могу на это ответить сколько-нибудь внятно, как не смог бы, видимо, ответить и тогда. Скорее всего, это было счастье совместного движения, своего рода торжество ритма. Не труба, не знамя, но барабан сделал нашу маленькую стаю отрядом, он придал нашему шествию нечто такое, что отрывало идущих от земли. Барабан отзывался в груди, в самом, казалось, сердце, и мощь его завораживала. Он входил в наши уши, ноздри, поры с теплым июльским ветром и шумом сосен. Оказавшись в Сиверской годы спустя (поздней осенью, совершенно случайно), я различил в дожде его дальнюю дробь.
СубботаДа, с Анастасией мы познакомились в двадцать первом году. Конечно же, не на катке. В доме на углу Большого проспекта и Зверинской, куда нас с мамой поселил Петросовет. Нам дали комнату в квартире, подвергшейся уплотнению. Уплотняли профессора Духовной академии Сергея Никифоровича Воронина и его дочь Анастасию. Анастасию, стало быть, Сергеевну. Просто Анастасию, но никогда – Настю. Не знаю, отчего я называл ее именно так, она ведь была младше меня на шесть лет. Может быть, мне очень нравилось ее полное имя, и я всякий раз произносил с наслаждением: Анастасия.
Ознакомительная версия.