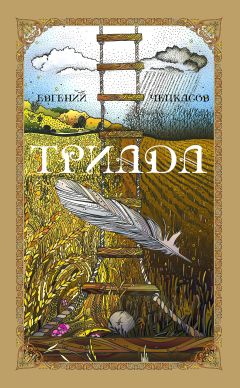«Хе, день! – мысленно усмехнулся я, осознав изумленно, что всего-то пара часов прошло, как я из троллейбуса выскочил. – Но всё ж таки ведет, это заметно. Стоп! Поймал, кажется… Такая сверхчувствительность душевная, как только что телесная, – часть какого-то испытания! – вывел я и отчего-то обрадовался. – Ничего, поживем – увидим».
Абсолютно беспричинно радость переродилась в заплесневелую тоску. Ошеломленный этаким чисто истерическим переходом, я сотворил молитву Иисусову и был поддержан распевным священническим басом:
– Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Своею благодатию!
«Но нет! – отчаянно думал я. – Я просил и раньше, но Он не миловал, не милует и сейчас… Да и зачем Ему я, зазнавшийся бумагомаратель?! Я бы ни за что такого не помиловал. И если меня кто и вел в церковь, то не иначе как бесенок – чтобы разуверился: пришел, мол, каяться, а сам…»
Я вновь застолбнячился. Опамятовался лишь когда весь храм дружно грянул:
– Верую!..
Я никогда не попадал на первое слово и, как всегда, подхватил со второго:
– Во единого Бога Отца, Вседержителя…
Это было мое любимое место в службе – совместное пение. Оно – что-то вроде лакмусовой бумажки: знает человек Символ веры, – значит, не впервые в церкви, не любопытствующий. Как правило, пели от силы треть прихожан. И вот я среди этой трети чисто вел ворсистым нутряным басом, непредположимым при моей комплекции. Молчаливые окружающие изумленно и порой стыдливо косились на меня; было приятно.
Нынче голос мой изменился: он непослушно вихлялся, стал хрупким и уже с извилистой трещинкой, но вскоре сросся, выправился. Я пел и помаленьку оттаивал, оживал и чувствовал, что действительно верую. Да и естественно: выучив Символ веры, я ни разу не усомнился в нем. Только вот жил я распоследней свиньей, а вера без дел мертва… Но сейчас я пел и ощущал, что это пение – дело, и с каждым словом молитвенный настрой возвращался. Я ликующе пел, заглушая молодого баритонящего священника, который солировал и дирижировал перед предстоящими. К ликованию как-то исподволь подмешалось восхищение собственным голосом. Но я не думал об этом, я беспрестанно крестился, отшвырнув воспоминание о котенке…
Но случилось страшное. От неописуемого восторга я начал петь быстрее и услышал, как остальные голоса потянулись за моим, а священник не сумел перестроиться и замялся. Мигом поняв, что отбил паству, я смолк, молчал и батюшка, а обездоленные голоса начали стихать и разбредаться, но он сразу же подхватил их и благополучно донес до конца.
– Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века. Аминь! – дружно допели все, кроме вашего покорного слуги.
Священник посмотрел на меня. Я глянул на пол. Пол был каменный. Там лежало раздавленным то, о возвращении чего я так молил.
Вероятно, если бы я шел по ледяной реке и угодил в полынью, и долго барахтался, и выбрался на лед, а после от радости начал прыгать и вновь провалился, то я бы чувствовал себя не хуже, чем теперь. Сейчас спасительный лед отступил от меня, я обессилел, и уже стало интересно, что там, в темной глубине. Страх, раскаяние, жалость к себе – ничего этого не появилось: я был пуст. Казалось, стукни кто по мне, я бы гулко зазвучал, как бессодержательные рыцарские доспехи. Разве что тот самый зловещий интерес к темной глубине мог ответно вдарить изнутри сухим мослом.
– Свят, свят, свят Господь Саваоф! Исполнь небо и земля славы Твоея. Осанна в вышних! – донеслось откуда-то мелодичное хоровое пение.
Многократным эхом пение отразилось в моей бездонной пустоте и сплелось с воспоминанием: вот я иду в гору, и бросаю под ноги снежные ягоды, и давлю их, а сам мимовольно думаю: «Осанна! Осанна в вышних!» Тогда я обозвался богохульником и вдарил себе по скуле – правильно, правильно. Ведь это Христу, въехавшему в Иерусалим на осле, бросали на дорогу ветки вайи и пели осанну.
Я вновь погрузился в ледяную бездну, мною же произведенную, и всплыл лишь когда затворили Царские врата и задернули их изнутри завесой.
Там, в таинственном алтаре, свершалось чудо превращения хлеба и вина в Тело и Кровь Господни. А мне закрытие врат напомнило нечто… Да! Четыре года назад я окрестился, через полгода купил молитвослов, еще через полгода стал ежедневно молиться… И вот, затворяя дверь в свою комнату перед молитвой, я иной раз представлял, что дверь – это Царские врата, комната – алтарь, а я – священник. И сладостно, и жутко было от таких представлений, и я бросался на колени перед новокупленными образами, и молился, водя пальцем по крупным строчкам молитвослова. И я хотел вечно стоять на коленях и молиться, потому что лишь в коленопреклоненной молитве так отчетливо ощущаешь Божие величие и собственное ничтожество…
Где это всё?!
Поначалу многое церковнославянское казалось малопонятным, труднопроизносимым и громоздким, и я дерзостно пытался осовременить молитву. Я уже почти не пользовался молитвословом, а сверившись с ним однажды, изумился: я читал молитвы абсолютно так же, как там написано. Оказалось, что современные слова, вставленные мной, незаметно выпадали, будто молочные зубы, и заменялись исконными. Как же я радовался тогда, как молился, прося у Бога прощения за самоволие!..
Где это всё?!
Входя в церковь, я словно перешагивал грань между мирами. Тогда тайна была везде: не только в алтаре, но и в центре храма, под огромным паникадилом, и в притворе, и на паперти. И я в молитве познавал непознаваемую тайну…
Где это всё?!
«А всё там, там! – горько подумал я, подразумевая великую бездну, разверзшуюся во мне. – Всё туда ухнуло; теперь понятно, куда девают шпаги шпагоглотатели, но отчего же нет глотателей поездов, глотателей гор, глотателей галактик?.. Эта бездна бездонна, если сумела поглотить такое!!!»
Перед затворенными Царскими вратами возник священник и со слов «дорогие братья и сестры» начал проповедь. Он рассказывал о том, как благочестивая императрица Елена обрела Крест, на котором был распят Спаситель, и воздвигла великую находку на Голгофе для поклонения. Я удивился тому, что так внимательно слушаю проповедь после всего происшедшего, и вдруг ужаснулся: неприметно для себя я считал речевые ошибки батюшки, загибая пальцы…
«Что же мне после этого?..» – потерянно подумал я.
Проповедь закончилась, и народ поблагодарил:
– Спаси Господи!
Священник ушел, распахнулись Царские врата, и повторилось многократно виденное, многократно слышанное. Вынесли чашу с Дарами.
«А мне уже никогда не отведать святых Даров! – с отчаянной уверенностью решил я. Уверенность и какая-то самоистязательная радость всклень наполнили меня, доселе пустовавшего. – Да, их мне не отведать, но то, чем они были до таинства, – можно!.. Купить батон да бутылку кагора и вкушать, пока не окосеешь. Хе-хе! Хоть всю жизнь ежемесячно причащайся – столько не выжрать!!! А повод уважительный, тут уж никто осуждать не будет: поминки, да еще по самому себе!..»
– Тело Христово примите, источника безсмертнаго вкусите! – уныло тянули на клиросе, вереница вкусивших неспешно текла запивать теплой святой водой. Многие глядели на причастников, проходящих мимо со скрещенными на груди руками, сопереживающе и улыбчиво. Я же зыркал на них так, как, вероятно, зыркают бесы на Ангелов, – злобно и завистливо.
«Ничего! – думал я. – Темная глубина – это тоже интересно».
Причащение закончилось, и архиепископ благословил предстоящих Чашей. То, ради чего собрались здесь люди, свершилось, кульминация миновала, и теперь служба слегка торопливо катилась к развязке. На клиросах пропели нечто соответствующее, владыка, нанизав крохотное солнышко на дужку очков, произнес проповедь о смысле крестного знамения, и без того всем известном: прикасаясь щепотью к челу, груди и плечам, мы подтверждаем, что верны Христу разумом, сердцем и действиями. Потом он скрылся в алтаре и возник вновь уже переоблаченным, с посохом и в мантии. Благословив народ, архиепископ вшагнул в Северные врата иконостаса, грянуло священническое славословие, а следом вне храма начальственно рыкнула машина.
«Укатил, – логично вывел я. – Пора и мне. Теперь – вон из церкви, купить кагор (непременно кагор!), конфетки послаще и – к шлюхе какой-нибудь школьной… Да, знаю такую: мне ее еще сердобольные одноклассники навяливали. К ней, наверное, можно и так… Но нет, нужно с кагором, обязательно с кагором!»
Я развернулся к выходу и уже двинулся было восвояси, но вынесли крест, и я пошел приложиться – более по привычке, нежели сознательно. «Да зачем это я? – подумалось. – Да зачем мне теперь крест?.. Но меня уже цепко стиснула толчея – не мог же я оборотиться и уйти, расталкивая напирающих сзади… Даже сейчас я оставался патологически вежливым!