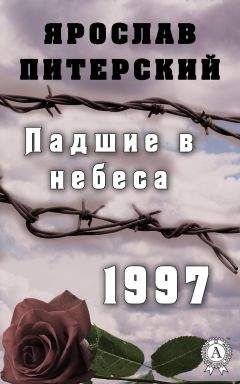– Он вроде крепкий. Крепкий.
– Да, нормально. Парень, ты как?
– А ну, мужики, расступись, – услышал голос Оболенского Клюфт.
Петр Иванович тоже склонился над Павлом и протянул кружку с водой. Старик бережно приподнял его голову и поднес емкость к губам. Клюфт сделал несколько глотков. Стало легче. Павел попытался встать. Но Оболенский зашептал:
– Лежи, Паша. Береги силы. Они, видно, тебе по ране попали. Сапогом. Вот ты и вырубился. Сейчас-то как? А?
– Да ничего, Петр Иванович, вот только немного ребра болят.
– Ну, ты лежи, лежи. А вообще, тебе спасибо надо вон тому мужчине сказать. Он тебя почти спас. Если бы не он, эти гады бы так и бросили тебя на перроне. Сколько бы ты вот так на снегу провалялся? А?! Пока этап не уйдет! Потом бы решали час, что с тобой делать. А там, сам понимаешь, воспаление легких и сразу в морг. А то и в канаву бы свезли. Вот и все. Так что спасибо вон тому мужику скажи! – Оболенский кивнул куда-то вбок.
Павел приподнял голову и оглянулся. Но в полумраке что-то или кого-то рассмотреть было сложно. Но Павлу все-таки удалось заметить эту мрачную обстановку. Огромное количество людей. Они стояли возле стен и лежали на сбитых трехъярусных нарах, причем один на одном. Мест явно не хватало. Это были и молодые, и пожилые мужчины. Одетые кто во что. Тут мелькали и дорогие шубы, и фуфайки, и даже кожаные плащи. Публика явно была разношерстная. И интеллигенция в лакированных туфлях, и крестьяне в валенках, и рабочие в сапогах и даже какой-то мужчина во фраке и белых, несуразных штиблетах. Посредине вагона высилась печка-«буржуйка». Возле нее народу было вообще не продохнуть. Каждый хотел погреться возле этой железной бочки с ржавой трубой, выведенной в крышу. Печка гудела. Дрова в ней трескались и хлопали. В вагоне стоял гул. Несколько человек примостились друг на друга, пытались рассмотреть в маленьких оконцах с зарешеченными толстыми стальными прутьями.
– Вон, вон!!!
– Грузят еще.
– Все, вроде закончили.
– Сколько еще стоять-то будем? А? Может, обменять махорки успеем? А? Курить охота! Сколько еще стоять-то?
– А тебе-то что? Все одно!
– Как, не скажи! В лагере-то там бараки. Тепло. А тут. Сквозняки. И жрать дают один раз в сутки! Сдохнем!
– А ты моли Бога, чтоб сдохнуть побыстрее! Мучиться меньше!
– Э-э-э, не! Не хочу!
– А вчера в соседнем вагоне три трупа сняли. Все замерзли. А сегодня два. Сам видел, тащили!
Павел вслушивался в разговоры арестантов и понимал, что ему еще не раз вспомнятся уютные ночи тюремного лазарета. Тут, в этом старом и тесном вагоне, начинался настоящий ад. Холодный и беспощадный. Клюфт закрыл глаза и тихо спросил Оболенского:
– Петр Иванович, куда повезут-то? Неизвестно?
– Кто его знает, Паша?! Дальше Колымы, как говорится, не отвезут. На восток, говорят. На восток, – печально вздохнул старик.
Вмешался еще один мужчина:
– Да, мы вон с Уфы едем. Уже десять дней едем. Говорят, что еще столько же ехать придется. А тут, в Красноярске, мол, последний подсад был. Все, теперь литером, мол, пойдем без остановок долгих. На восток. До Ванино. А там, на корабли посадят – и в Магадан. Так вот конвойные гутарили. Кстати, тут конвой сменился. Был-то башкирский. А сейчас вроде как иркутский. Говорят, сибиряки – ребята ничего. А то башкиры уж больно лютые. Суки узкоглазые! У них ни махорку, ни чая не выменять! А сибиряки вроде ничего!
Павел открыл глаза и покосился на мужика. Это был человек лет пятидесяти. С округлой седой бородой. Морщинистое лицо. И длинные волосы. На голове шапка-«пирожок». Мужчина приветливо улыбнулся:
– А ты, хлопчик, что, ранен? А? На допросе били? Небось, почки поотбивали и ребра переломали?
– Да, подстрелили… – вздохнул Павел.
– Ай-ай. Ой, главное, чтобы рана не кровоточила. А иначе все! Тут, на этапе, никто тебе никакой помощи не окажет. В лучшем случае, просто кинут в угол вагона и дадут замерзнуть. А в худшем – заставят на каком-нибудь полустанке якобы в лазарет местный идти под конвоем, а сами и пристрелят по дороге. На обочине. И спишут как побег. А трупак оформят по инструкции. Им за это еще даже благодарность полагается. А солдатам даже отпуск могут за беглого зэка дать! И такое я слышал! Так что болеть нам нельзя тут на этапе! Им возиться с нашим братом вообще никаких резонов! А ты лежи, лежи, хлопчик! Вот, попей водички!
Где-то далеко засвистел и завыл паровоз. Сигнал разнесся, словно рев диковинного громадного животного. На перроне послышались крики. Рядом лаяли собаки. Матерились конвойные и выли женщины. Был отчетливо слышан стон и причитание. Голоса вторили друг другу. И вновь отборные маты конвойных. И лай собак. Заскрипев нудно и устрашающе, захлопнулась створка двери. Лязгнул замок на засове. Еще раз прощальным гудком заревел паровоз. Павел закрыл глаза. В вагоне все притихли. Словно понимая – в его жизни наступает новая эпоха. Возможно, самая мрачная и страшная. И для кого-то она окажется завершающей. Дух обреченности витал в вагоне. На мгновение повисла тишина. Каждый прислушивался к звукам. Что? Что дальше и… Толчок и состав дернулся с места. Медленно, но уверенно он покатил по рельсам. На стыках колеса усердно перестукивали противную дробь. В соседнем вагоне дико заорал человек. Это был вопль отчаянья. Человек кричал что есть мочи. Его голос уже был похож на рев зверя, загнанного в ловушку.
– Света! Света! Я люблю тебя!!!! Береги детей!!! Света! Света! Прости! Прости! Забудь! Света, забудь!
Снова натужно загудел паровоз. Словно машинист попытался длинным и тревожным сигналом заглушить этот нечеловеческий вопль. Его невозможно было слушать. Разрывалось сердце. Сквозь маленькие вагонные оконца пробивался свет фонарей. Фигуры людей в вагоне освещались то желтыми, то бело-синими полосками. Эти световые ленточки пробегали по силуэтам и растворялись где-то в щелях за промерзшими от мороза досками.
«Призраки. Мы все призраки! Нас всех уже нет! Нас нет и не может быть! Мы вычеркнуты из списков живых!!! Из списков тех, кто достоин жить! Мы уже можем говорить о себе: мы были на этом свете, но нас нет. Нет!» – с неугасимой болью подумал Павел.
Обреченность и беззащитность. Будущее. Как можно думать о будущем, если его нет?! Уже нет после этого приговора! После всей этой окружающей мерзости! Его и не может быть! Как думать о прошлом, если на это просто нет сил! Да и что это даст? Рассуждение о прошлом? Зачем мучить свое сознание? Зачем?!
«А вообще, зачем я жил?! Зачем я приходил в этот мир? Зачем я родился? Чтобы вот так подохнуть где-нибудь в лагере? Замерзнуть по дороге в бескрайних просторах сибирской тайги? Замерзнуть, превратиться в кучу ледяного мяса. В кусок! В бесформенную глыбу, которая по весне растает и сгниет где-нибудь на обочине проселочной дороги? Что я оставлю после себя? Что я мог оставить после себя? Ничего! Пустота! Как будто меня и не было! Как будто я и не жил в этом мире! В этом? А какой же он еще может быть? Этот, тот? Неужели после смерти есть что-то? Нет, должно быть. Не может же все вот так закончиться, как бы ничего не начавшись? Не может! Значит, там за гранью, которую мы называем смертью, что-то все-таки есть? Есть, не может не быть! Господи! Господи, есть, должно быть!» – Павел непроизвольно прошептал последние мысли вслух.
– Ну что, он опять бредит? – услышал Клюфт рядом с собой суровый мужской голос.
– Нет-нет. Он просто так, рассуждает. Вслух, как я понимаю, – ответил за него Оболенский.
Петр Иванович словно читал его мысли. Словно знал, о чем Павел думает.
– Его бы надо вон туда, на нары перенести. Сам сможет перейти? А? Я договорюсь о месте! – вновь сказал незнакомец.
Павел открыл глаза. Он попытался рассмотреть этого заботливого человека. Но тщетно. Полумрак скрывает черты лица. Одежда обычная. Полушубок и меховая шапка на голове. Коренастый. Хотя, как показалось Павлу, он уже где-то видел этого человека.
– Не надо за меня беспокоиться. Не надо. Да и зачем. Все кончено, – уставшим голосом из себя выдавил Павел.
Ему захотелось заплакать. Комок подкатил к горлу. Слезы выступили на ресницах. Но Клюфт сдержал себя. И глубоко вздохнув, отвернулся.
– Эй, Паша! Ты это брось! Если вот так обреченно сдаться судьбе, значит, не уважать себя! Ты что, не уважаешь себя? – прикрикнул на Клюфта Петр Иванович, словно строгий доктор.
– Да я-то уважаю. А вот, гляжу, общество наше меня не уважает. И вас не уважает. И его вот не уважает, – дерзко ответил Павел и кивнул в сторону заботливого мужчины.
– Да плевать мне на общество. И на то, уважают ли они меня! Главное, я сам себя уважаю. И буду уважать до последней минуты! – с издевкой в голосе сказал Оболенский. – Ты думай, как дальше жить?! Как выжить?! Как потом жить будешь?! И все! Жить надо в любой ситуации и уважать себя! Даже когда тебе невыносимо противно! Все равно надо жить!
– Да зачем жить, уважать, если все кончено?! Все! Как же вы не понимаете, Петр Иванович? Все! Если нас не расстреляли, то это не значит, что мы выживем! Там, в тайге, куда нас отправят, выжить очень трудно! Очень! Все! Да и зачем выживать? Зачем? Чтобы потом вернуться к ним, к этим свиньям, которые нас посадили? И ходить с ними по одним улицам, дышать с ними одним кислородом и молчать! А главное бояться! Бояться, чтобы тебя вновь не отправили по этапу! Вновь не закинули в камеру! Вновь не разбили табуретку о твою голову! – грустно сказал Павел.