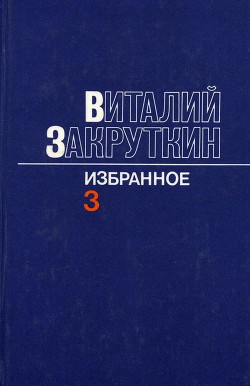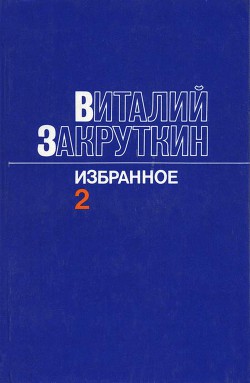Виталий Закруткин
Сотворение мира. Книга первая
И слышал я как бы слово многих народов, как бы шум под яростных, как бы грохот громов!.. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали.
«Откровение», XIX, 6; XXI
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
Крест был готов. Он был сделан из дубового бревна, снятого с конских яслей. Кони годами терлись об ясли, годами роняли слюну на крепкое дерево, и потому крест лоснился, как рыжая, в мыльных натеках конская шея.
В середине бревна торчало грубо выкованное, тронутое ржавчиной железное кольцо, к нему когда-то привязывали повод. Кольцо надо было снять, но у старика, который делал крест, иссякли силы.
— Нехай остается, — хмуро пробормотал он. — Кольцо никому не мешает…
Низенький, сухощавый, в рваном зипуне, с жидкой седой бородой и слезящимися глазами, старик был один в огромной пустой конюшне. Где-то под крышей, на затянутых паутиной стропилах, жалобно гудел еще не съеденный людьми осиротевший голубь, а в дальнем, темном углу, подогнув ноги, стояла тощая кобыленка.
В полуоткрытую дверь конюшни завевал снежок, дверь скрипела ржавыми петлями, ветер разносил кругом запах навозного дыма.
Старик, кряхтя, опустился на колени, раздул разложенный среди конюшни костер и сунул в жар длинный тележный шкворень. Потом он зачерпнул рукавицей горсть снега, взял зашипевший шкворень и выжег на кресте кривые знаки:
Шаркая валенками, старик отошел, прищурил глаза и вздохнул:
— Э-хе-хе… грехи наши тяжкие… Вот, гадал человек, что от голода уйдет, из-за Волги в нашу Огнищанку прибыл, детей и внуков с собою привез, в господском дому поселился, а от смерти не ушел…
В глубине темной конюшни слабо заржала кобыла. Старик пошел к ней, спотыкаясь, на ходу подбирая втоптанные в мерзлый навоз кукурузные бодылья.
Истощенная кобыла уже не держалась на ногах. Опустив голову, она неподвижно висела на подвязанных к балке веревочных постромках. Почуяв приближение человека, кобыла шевельнула ухом, скосила меркнущий фиолетовый глаз.
— Эх, голуба, голуба, — с укоризной сказал старик, — не довезешь ты своего покойного хозяина до кладбища, отработала, бедняга…
Он кинул в ясли заледенелые, звякнувшие, как стекло, бодылья, затоптал костер, взвалил на спину крест и побрел к темнеющему в сугробах дому.
Большой приземистый дом с покосившейся террасой и заколоченными до половины окнами стоял на краю парка, далеко от конюшни. К дому не вела ни одна тропинка, и старик, сгибаясь под тяжестью дубового креста, медленно брел по глубокому снегу и хрипло бормотал:
— Маются люди, лучшего ищут, а конец у всех один… Вот наш барин… Разве ж он думал, что его хозяйство прахом пойдет? Годами людей давил, ночи недосыпал, по соломинке да по зернышку добро собирал. А чего получилось? Не понять… Барин сгинул, добро его ветром развеяно, в дому поселился мужик, которого барин и до порога не допустил бы… А ныне и этот мужик богу душу отдал…
Прислонив крест к разломанным перилам террасы, старик обмахнул веником валенки, скинул шапчонку, ощупью прошел темные сени и потянул медную дверную ручку. Из большой комнаты вырвался теплый пар.
В комнате сидели и стояли изможденные люди, молчаливой кучкой жались к стене полураздетые дети с тонкими шеями, а посредине, на столе, в длинном, нескладном гробу лежал покойник. Он был накрыт жидкой холстиной. Недоброе, восковой желтизны лицо мертвеца озарялось горящей у изголовья свечой, бурые, как березовые корни, руки застыли на белом холсте.
Увидев вошедшего в комнату старика, молодая женщина в зеленом платье тронула его за рукав:
— Пока попа привезут, вы бы, дедушка Силыч, почитали над покойником.
— Почитаю, Настасья Мартыновна, — ласково кивнул старик, — дай только душу отогреть…
Он прошел к печке, скинул зипун, размотал тряпье на шее, тронул ладонью плечо тонкого белобрысого мальчика:
— Ну, Андрюха, преставился, значит, дед Данила, ась?
Мальчик поднял голубые глаза и не ответил.
— Господь с ним, — отозвалась угрюмая старуха в углу — преставился — стало быть, дети лишний кусок хлеба съедят…
Настасья Мартыновна укоризненно сказала старухе:
— Это вы напрасно, соседка. Данила Иванович последнюю крошку детям отдавал…
Она поправила вылезшую из-под шерстяного платка русую косу, встала у печки, заложив руки за спину, и проговорила, ни к кому не обращаясь:
— Принесешь ему, больному, лепешку, отвернешься, а он ребятишкам ее отдаст. Ничего для них не жалел. Придешь за тарелкой, он поведет глазами: спасибо, говорит, я поел… А сам ничего не ел, все внукам отдавал. Так и помер с голоду…
Дед Силыч понимающе кивнул сивой головой:
— Это так, голуба… нехай, дескать, ребятишки живут.
Он вытащил из-за пазухи книжку в кожаном переплете, надел на толстый нос очки в стальной оправе, стал у гроба и затянул высоким голосом:
— «Да воспримут горы мир людям и холмы правду… Снидет яко дождь на руно и яко капля, каплющая на землю… Будет утверждение на земли, на версех гор, превознесется паче Ливана плод его, и процветут от града яко трава земная…»
На темном лице покойника мерцали отсветы свечи. Притихшие люди с тупым равнодушием слушали непонятные слова псалтыря, а дед Силыч, перелистывая замусоленные, пахнущие воском страницы, читал о бренной человеческой жизни, о суете мирской, о земле, по которой человек прошел как странник, чтобы уйти и не возвращаться на эту трудную землю…
Услышав лай собаки и гомон на террасе, дед Силыч закрыл псалтырь.
В комнату, поддерживаемый под руки двумя мужчинами, вошел старый священник с изможденным лицом, с белой бородой и строгими, глубоко ввалившимися глазами. Он перекрестился, искоса глянул на покойника, снял овчинный тулупчик и, тяжело дыша, присел на лавку. Дьячок поставил рядом с ним потертый саквояж, такой, какие носят акушерки.
— Кто тут хозяин? — исподлобья оглядывая людей, спросил священник.
— Хозяина нет, — сказала Настасья Мартыновна, — хозяин в отъезде, я одна осталась с детьми.
— Усопший кем вам доводится?
— Это мой свекор, Данила Иванович Ставров, — объяснила хозяйка. — Мы голодающие, Ставровы наша фамилия.
Священник устало кивнул, открыл саквояж и стал доставать шитую галуном епитрахиль, но вдруг спросил неожиданно:
— Чтобы хоронить по обряду, никто в семье не препятствует?
Женщина смутилась:
— Не понимаю, батюшка…
— Безбожников у вас нет? — раздражаясь, спросил священник. — Может, есть коммунисты или же комсомольцы, которые против обряда?
— Муженек ейный, Митрий, безбожник, — вмешалась сидевшая в углу старуха, — он фершал, сын покойного Данилы Ивановича. Только его дома нет, за хлебом поехал.
Священник махнул рукой:
— Ладно, мать, Христос с тобой…
Он надел епитрахиль, выпростал из-под бархатной, подбитой ватой скуфьи седые волосы. Дьячок разжег кадило, в комнате потянуло запахом ладана.
Мужчины подняли гроб на плечи, толкаясь в дверях, вышли во двор. За ними двинулись женщины и закутанные в серую ветошь дети.
Редкая цепочка людей потянулась к кладбищу. Над деревней темнело зимнее небо, ветер гнал по склону холма снежную заметь, рвал солому с крыш, выл в обледенелых ветвях деревьев. Молчаливые люди, спотыкаясь, брели в глубоких сугробах, и над ними, в холодном тумане пасмурного дня, плыло неясное очертание тяжелого креста.
Крест нес согнутый в дугу дед Силыч. Рядом с ним шагал голубоглазый Андрюша Ставров. Слыша надрывное дыхание Силыча, он просил, хватая старика за зипун:
— Дедушка, дай я понесу, тебе тяжело… Давай я, дедушка…