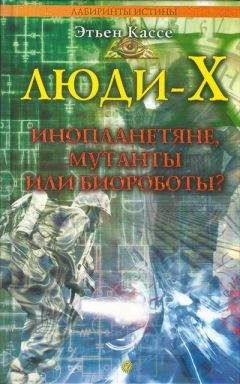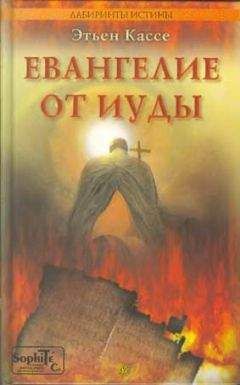Его, конечно, очень высоко ценили в кафе Глюк, слава которого для нас больше связывалась с этой безвестной кафедрой, чем с именем патрона кафе, великого музыканта, творца «Альцесты» и «Ифигении» — Кристофа Виллибальда Глюка. Мендель был там такой же непременной частью обстановки, как старая касса из вишневого дерева, два латаных и перелатанных бильярда и медный кофейник; его стол охранялся как святыня, ибо персонал кафе всегда радушно приглашал его многочисленных клиентов заказать что-нибудь, и таким образом, львиная доля прибыли от его знаний попадала в широкую кожаную сумку, болтавшуюся на бедре обер-кельнера Дейблера. За это Мендель-букинист пользовался различными привилегиями: он свободно распоряжался телефоном, здесь сохраняли его корреспонденцию, выполняли его поручения; старая сердобольная уборщица чистила ему пальто, пришивала пуговицы и относила еженедельно маленький сверток белья в прачечную. Ему одному разрешалось брать обеды в соседнем ресторане, и каждое утро господин Штандгартнер, владелец кафе, подходил к столу Менделя и самолично приветствовал его (правда, большей частью Якоб Мендель, углубленный в свои книги, не замечал этого). Ровно в половине восьмого утра он входил в кафе, и только когда тушили свет, оставлял помещение. Он никогда не разговаривал с посетителями, не читал газет, не замечал никаких перемен, и когда господин Штандгартнер однажды вежливо спросил, не лучше ли читать при электрическом свете, чем раньше, при мигающих газовых горелках, он удивленно посмотрел на грушевидные лампочки: он решительно ничего не заметил, хотя шум, стукотня и беспорядок, вызванные проводкой, длились немало дней. Только сквозь круглые отверстия очков, сквозь эти два блестящих, всасывающих стекла, проникали в его мозг миллиарды черных инфузорий-букв; все остальное проносилось мимо потоком бессмысленных звуков. Больше тридцати лет — другими словами, всю свою сознательную жизнь — он провел за этим четырехугольным столом, читая, сравнивая, вычисляя, и только ночь прерывала на несколько часов этот нескончаемый сон наяву.
Поэтому меня неприятно поразило, когда я увидел этот мраморный стол — былое прибежище оракула — опустелым, как могильная плита. Только теперь, в более зрелые годы, я понял, как много исчезает с уходом каждого такого человека, — прежде всего потому, что все неповторимое день ото дня становится все драгоценнее в нашем обреченном на однообразие мире. К тому же я очень полюбил Якоба Менделя — хотя, по молодости лет и недостатку опыта, и безотчетно. В его лице я впервые приблизился к великой тайне — что все исключительное и мощное в нашем бытии создается лишь внутренней сосредоточенностью, лишь благородной мономанией, священной одержимостью безумцев. Он показал мне, что непорочная жизнь в духе, самозабвенное служение одной идее, столь же страстное, как у индийских йогов или средневековых монахов, возможно и в наши дни и притом в освещенном электричеством кафе, рядом с телефонной будкой; в лице безвестного, ничтожного букиниста я нашел пример такого служения гораздо более яркий, чем у наших современных поэтов. И все же я умудрился забыть его; правда, то были годы войны, а я, подобно ему, с головой ушел в свою работу. Но сейчас, увидев опустевший стол, я почувствовал стыд и вместе с тем любопытство.
Куда он исчез, что с ним случилось? Я позвал кельнера и спросил у него. Нет, к сожалению, он такого не знает. Среди завсегдатаев кафе никакого господина Менделя нет. Но, может быть, обер-кельнер знает. Обер-кельнер лениво подошел, выставив вперед солидное брюшко, с минуту подумал — нет, он тоже не припоминает господина Менделя. Но, может быть, я имею в виду господина Манделя, владельца галантерейного магазина на улице Флорианц? Я ощутил горький привкус на губах, привкус тлена: для чего мы живем, если ветер, чуть ступила наша нога, тут же заметает ее след? Тридцать, быть может, даже сорок лет здесь, на пространстве в несколько квадратных метров, говорил, дышал, работал, думал человек; прошло всего три-четыре года, воцарился новый фараон, и уже никто не помнит о Иосифе, — никто в кафе Глюк не помнит о Якобе Менделе, Менделе-букинисте. Почти с гневом спросил я обер-кельнера, не могу ли я видеть господина Штандгартнера и не остался ли кто-нибудь из старого персонала. Штандгартнер? Бог ты мой, он давным-давно продал кафе и уже умер, а старый обер-кельнер живет в своем именьице под Кремсом. Нет, никого не осталось… впрочем… постойте! Ну, конечно, фрау Споршиль, уборщица, еще здесь. Но вряд ли она помнит отдельных посетителей. Однако я решил, что человека, подобного Якобу Менделю, не так-то легко забыть, и попросил вызвать эту женщину.
Она пришла, фрау Споршиль, из своего укромного уголка, седая, растрепанная, тяжело ступая отекшими ногами; на ходу она поспешно вытирала платком красные руки: должно быть, она только что подметала пол или протирала окна. Я сразу заметил, что этот неожиданный вызов был ей неприятен. В нарядном зале, под ярким электрическим светом она чувствовала себя неловко; к тому же простые люди в Вене всегда опасаются подосланных полицией сыщиков, когда к ним обращаются с расспросами. Сперва она бросила на меня взгляд исподлобья недоверчиво и настороженно. Зачем ее позвали? К добру ли это? Но как только я спросил о Якобе Менделе, она встрепенулась и посмотрела на меня открыто, с радостным изумлением. — Боже мой, бедный господин Мендель, неужели еще кто-нибудь помнит о нем? Ах, бедный господин Мендель! — Она была растрогана до слез, как все старые люди, когда им напоминают об их юности, о давних забытых друзьях. Я спросил ее, жив ли он. — Ах, боже мой, вот уже пять или шесть лет, нет, пожалуй, все семь прошло с тех пор, как умер бедный господин Мендель. Такой славный, хороший человек, и как подумаю, сколько лет я его знала, — больше двадцати пяти, ведь он уже был тут, когда я поступила. А что ему дали так умереть — это просто стыд и срам. — Она совсем разволновалась и спросила меня, не прихожусь ли я ему родственником? Ведь никто никогда не заботился о нем, никто о нем не справлялся — и неужели я не знаю, что с ним приключилось?
Нет, мне ничего не известно, заверил я, и прошу рассказать мне, рассказать все подробно. Но старушка робко и смущенно поглядывала на меня и все вытирала свои мокрые руки. Я понял: ей, уборщице, неловко было стоять посреди кафе с растрепанными седыми волосами, в грязном переднике; к тому же она боязливо озиралась по сторонам, не подслушивает ли кто из кельнеров. Поэтому я предложил ей пройти в бильярдную, на старое место Менделя, и там рассказать мне все, что она знала о нем. Она дружелюбно кивнула, словно благодаря меня за то, что я понял ее, и пошла вперед неуверенным, старушечьим шагом, я — за ней. Оба кельнера изумленно посмотрели нам вслед, они угадывали какое-то сообщество между нами; да и кое-кто из посетителей не без удивления проводил глазами столь неподходящую пару.
И там, за его столом (некоторые подробности я узнал впоследствии из другого источника), она рассказала мне о Якобе Менделе, о гибели Менделя-букиниста.
Так вот. Мендель, когда началась война, по-прежнему приходил каждый день в половине восьмого и сидел здесь, как всегда. И все так же с утра до вечера занимался; все в кафе считали и даже часто между собой говорили, что ему и невдомек, что идет война. Конечно, он ведь никогда не заглядывал в газеты, ни с кем не разговаривал, а когда газетчики подымали крик и все хватали экстренные выпуски, он никогда не вставал с места и не обращал на них внимания. Он и не заметил, что нет кельнера Франца (его убили под Горлицей) и что сын господина Штандгартнера попал в плен в Перемышле; он никогда не жаловался на то, что хлеб становится все хуже и что вместо молока он получает бурду из фигового кофе. Только раз как-то он сказал, что удивительно мало приходит студентов, — и все. Бог ты мой, бедняга ни о чем никогда не думал, одна радость у него была — книги.
Но вот пришел день, когда случилось несчастье. В одиннадцать часов утра явился жандарм, а с ним агент тайной полиции; он показал значок под отворотом пиджака и спросил, бывает ли здесь Якоб Мендель. И они сразу подошли к столу Менделя, а тот, в простоте своей, сначала подумал, что они хотят продать ему книги или о чем-то справиться. Но они сразу сказали, чтобы он шел за ними, и увели его. Для кафе это был просто скандал — все посетители окружили бедного господина Менделя, а он стоял между теми двумя, сдвинув очки на лоб, и смотрел то на одного, то на другого и не понимал, чего они, собственно, от него хотят. Она же сразу сказала жандарму, что это ошибка, такой человек, как господин Мендель, и мухи не обидит, но агент полиции накричал на нее, чтобы она не смела вмешиваться в его служебные обязанности. Потом его увели, и он долго не приходил, целых два года. Еще и по сегодняшний день она точно не знает, чего они от него хотели.
— Но я присягнуть готова, — взволнованно сказала старушка, — господин Мендель не мог сделать ничего дурного. Они ошиблись, головой ручаюсь. Так поступить с бедным, ни в чем не повинным человеком — это просто преступление!