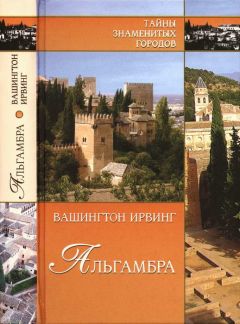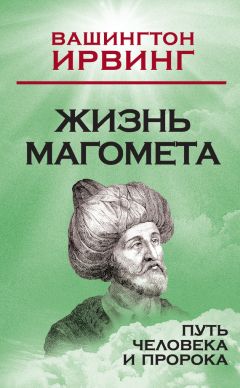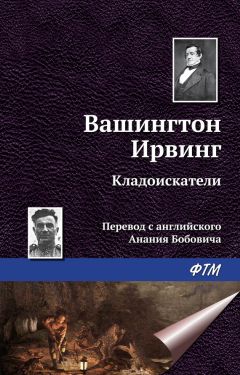Время от времени изнутри горы слышались музыка и женское пение; и как-то один крестьянин донес царю, что прошлой ночью он нашел расселину в скалах, пробрался вглубь и наконец увидел подземный чертог и звездочета на роскошном диване: он послушно дремал под колдовские звуки серебряной лиры.
Абен Габуз бросился искать расселину, но она снова сомкнулась. Он опять попробовал докопаться до соперника, и опять понапрасну. Видно, чародейную руку с ключом людскими силами было не одолеть. А на вершине горы, на месте обещанного дворца и сада, была голая пустошь: либо хваленый вертоград был сокрыт от глаз волшебством, либо звездочет все выдумал. Милосердная молва избрала второе, и одни называли это место Царевой Блажью, другие — Дурьей Потехой.
В довершение бед Абен Габуза соседи, которых он со своим волшебным всадником задирал, изводил и громил почем зря, обнаружили, что чары рассеялись, и кинулись на него со всех сторон, так что остаток дней государя-миролюбца прошел в кровавой суматохе.
Наконец Абен Габуз умер и был предан земле. Миновали столетия. На пресловутой горе построили Альгамбру, и в ней отчасти была явлена баснословная прелесть иремских садов. Зачарованный портал цел и невредим — его, конечно, сберегла волшебная власть руки и ключа — и образует теперь Врата Правосудия, главный вход в крепость. Говорят, что под этими вратами звездочет по-прежнему сидит в своем подземном чертоге и дремлет на том же диване под звуки серебряной лиры царевны.
Дряхлые инвалиды-часовые, несущие стражу у ворот, летними ночами иногда слышат эти напевы и под их усыпительным воздействием мирно почивают на посту. Вообще здесь разлита такая дрема, что даже и днем часовые обычно клюют носом, сидя на каменных скамьях в проходе, или же спят под соседними деревьями, так что это наверняка самый сонливый караул во всем христианском мире. И, по старинному преданию, так оно все и будет еще много веков. Царевна останется пленницей звездочета, а звездочет не сбросит колдовской дремоты до скончания дней, разве что волшебная рука ухватит роковой ключ и расколдует зачарованную гору.
Примечания к «Легенде об арабском звездочете»
Аль Маюсари в своей истории магометанских династий в Испании приводит рассказ другого арабского автора о магическом изображении, подобном описанному в легенде.
В Кадисе, говорит он, прежде была квадратная башня высотою более ста локтей, сложенная из громадных каменных глыб, скрепленных медными скобами. На вершине лицом к Атлантике стояла статуя с посохом в правой руке и указательным пальцем левой показывала на Гибралтарский пролив. По рассказам, ее когда-то поставили готские владыки Андалузии и она служила маяком и указанием мореходам. Мусульмане — берберы и андалузцы — считали, что она имеет волшебную власть над морем. Правя на нее, шайки пиратов из народа по имени Майюс приставали к берегу на больших судах с двумя квадратными парусами — один на носу, один на корме. Они являлись каждые шесть или семь лет; истребляли всех встречных на море; по указанию статуи проплывали через пролив в Средиземноморье, высаживались в Андалузии, предавая все огню и мечу; и область набегов их простиралась до самой Сирии.
Наконец, уже во времена гражданских войн мусульманский флотоводец захватил Кадис, прослышал, что статуя на вершине башни — из чистого золота, и велел ее снять и расколоть; она оказалась из золоченой меди. С разрушением истукана рассеялось и заклятие над морем. Пираты из океана больше не появлялись, только два их корабля разбились у берега, один возле Марсу-ль-Майюса (порта Майюсов), другой — неподалеку от мыса Аль-Аган.
Вероятно, эти морские разбойники, упоминаемые Аль Маккари, были норманны.
Почти три месяца никто не мешал мне воображать себя властителем Альгамбры, а многие ли из моих предшественников бывали безмятежны столь долго? Тем временем в природе свершались обычные перемены. Когда я приехал, все дышало майской свежестью: нежная листва деревьев еще сквозила; пунцовыми цветами был усыпан фанат, и в цвету стояли сады по берегам Хениля и Дарро, скалы были в цветущем диком убранстве, а Гранада потонула в розах; и бесчисленные соловьи заливались ночью и не смолкали днем.
Надвинулось лето, розы опали, соловьи угомонились; кругом, куда ни глянь, сушь и зной; правда, город обступает вечная зелень, и она же царит в узких низинах у подножия гор.
В Альгамбре есть, где укрыться в любой зной, и любопытнейшее из укрытий — купальни, едва ли не подземные. В них словно затаилась восточная старина, трогательно потускнелая, но не изглаженная временем. Из дворика, который прежде был весь в цветах, попадаешь в небольшой и прелестно отделанный зал. Поверху, над мраморными колоннами и резными аркадами идет галерейка. Алебастровый фонтан посреди зала, как встарь, мечет прохладительную струю. По обе стороны — глубокие альковы с возвышениями, где купальщики после омовений нежились на подушках, вдыхая сладостные ароматы и внимая тихой музыке с галереи. К залу примыкают запретные внутренние покои, sanctum sanctorum[89] женского уединения: здесь купались в роскоши гаремные красавицы. Повсюду разлит таинственный мягкий свет, проникающий сквозь прорези (lumbreras) сводчатого потолка. Следы былого изящества ласкают глаз, и сохранились в целости алебастровые ванны, в которых когда-то возлежали султанши. Здешняя тишь и полусвет полюбились летучим мышам: днем они висят по темным углам и закоулкам, а потревоженные, бесшумно мечутся по сумрачным палатам, и те кажутся оттого еще несравненно заброшенней и запущенней.
В этом прохладном и прелестном, хоть и обветшалом убежище, свежестью своей и потаенностью напоминавшем грот, я пережидал в летние месяцы самый нестерпимый зной, выбираясь отсюда лишь к закату; а ночами купался или даже плавал в большом водоеме главного двора. Так мне удавалось немного противостоять лености и разнеженности, к которым склоняет климат.
И вот мое воображаемое владычество все-таки подошло к концу. Однажды утром меня пробудили раскаты пальбы, гремевшей меж башен, словно замок взяли внезапным приступом. Бросившись на вылазку, я обнаружил, что Посольским Чертогом завладел пожилой идальго с челядью. Это был граф древнего рода, новоприбывший в Альгамбру из своего гранадского дворца, дабы подышать воздухом горных высот; и он, будучи старым воякой и застарелым охотником, нагуливал аппетит к завтраку, стреляя с балконов по ласточкам. Развлечение это было безобиднейшее, ибо, хотя его проворные слуги беспрерывно подавали ему перезаряженные ружья, ни одной ласточке погибели он не принес. Мало того, даже и самим птицам эта охота была как будто по нраву, и, словно насмехаясь над неловким стрелком, они кружили у самых балконов и весело щебетали, пропархивая мимо.
Прибытие пожилого идальго существенно изменило положение вещей, но не вызвало ни ревности, ни стычек. Мы негласно поделили царство между собой, подобно последним гранадским властителям, — и в отличие от них состояли в полной дружбе. Он был самодержцем в Львином Дворике и прилегающих чертогах, а я мирно владычествовал над купальнями и садиком Линдарахи. Трапезовали мы вместе под дворовыми аркадами, где фонтаны освежали воздух и журчащие струи бежали по мраморным желобам.
Вечерами вокруг почтенного старого идальго собирались его домашние. Графиня, его жена по второму браку, приходила из города вместе со своею падчерицей Кармен, единственным ребенком в семье, очаровательной, совсем юной девчушкой. Всегда присутствовал также кто-нибудь из домочадцев: духовник, поверенный, дворецкий, секретарь или другие служители, являвшиеся к нему с городскими новостями и составлявшие его вечернюю партию в тресильо или омбре[90]. Так он держал дома придворный штат, где все преклонялись перед ним и всякий старался его развлечь, правда, без всякого подобострастия или ущерба для собственного достоинства. Да ничего подобного поведение графа и не требовало: что ни говори об испанской гордости, но она не мешает ни дома, ни на людях. В редком народе отношения менаду родственниками столь раскованны и столь сердечны и высший относится к низшему без высокомерия, а тот, снизу вверх, — без подобострастия. В этом смысле в испанской жизни, особенно провинциальной, много еще остается от хваленой старинной простоты.
Из этой домашней свиты для меня всех интереснее была дочь графа, прелестная малютка Кармен. Ей и всего-то шестнадцать, и с виду она сущее дитя, но уже успела стать семейным кумиром и носит ласковое прозвище la Niña[91]. Она еще не созрела и не сформировалась, но в фигуре ее уже есть изумительная соразмерность и гибкая фация, отличающие женщин ее края. Белолицая, светловолосая, с голубыми глазами, она была не похожа на андалузянку: кроткий и тихий нрав ее совсем не шел бы к огневой испанской красоте, однако был под стать ее простодушию и невинной доверчивости. Вместе с тем она, как большинство испанок, была многосторонне одарена от природы. Все у нее получалось хорошо и давалось ей без усилия. Она пела, играла на гитаре и других инструментах и восхитительно исполняла живописные народные танцы, но восхищения никогда не искала. Она просто резвилась — весело и беспечно.