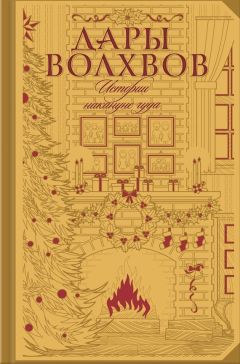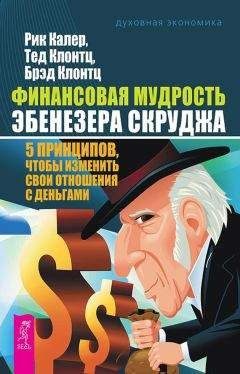Иероним взялся за канат, но тотчас же опять повернулся ко мне.
– Ваше благородие, а ум какой светлый! – сказал он певучим голосом. – Какой язык благозвучный и сладкий! Именно, как вот сейчас будут петь в заутрене: «О, любез-наго! о, сладчайшаго Твоего гласа!» Кроме всех прочих человеческих качеств, в нем был еще и дар необычайный!
– Какой дар? – спросил я.
Монах оглядел меня и, точно убедившись, что мне можно вверять тайны, весело засмеялся.
– У него был дар акафисты писать… – сказал он. – Чудо, господин, да и только! Вы изумитесь, ежели я вам объясню! Отец архимандрит у нас из московских, отец наместник в Казанской академии кончил, есть у нас и иеромонахи разумные, и старцы, но ведь, скажи пожалуйста, ни одного такого нет, чтобы писать умел, а Николай, простой монах, иеродьякон, нигде не обучался и даже видимости наружной не имел, а писал! Чудо! Истинно чудо!
Иероним всплеснул руками и, совсем забыв про канат, продолжал с увлечением:
– Отец наместник затрудняется проповеди составлять; когда историю монастыря писал, то всю братию загонял и раз десять в город ездил, а Николай акафисты писал! Акафисты! Это не то что проповедь или история!
– А разве акафисты трудно писать? – спросил я.
– Большая трудность… – покрутил головой Иероним. – Тут и мудростью, и святостью ничего не поделаешь, ежели Бог дара не дал. Монахи, которые непонимающие, рассуждают, что для этого нужно только знать житие святого, которому пишешь, да с прочими акафистами соображаться. Но это, господин, неправильно. Оно, конечно, кто пишет акафист, тот должен знать житие до чрезвычайности, до последней самомалейшей точки. Ну и соображаться с прочими акафистами нужно, как где начать и о чем писать. К примеру сказать вам, первый кондак везде начинается с «возбранный» или «избранный»… Первый икос завсегда надо начинать с Ангела. В акафисте к Иисусу Сладчайшему, ежели интересуетесь, он начинается так: «Ангелов Творче и Господи сил», в акафисте к Пресвятой Богородице: «Ангел предстатель с небесе послан бысть», к Николаю Чудотворцу: «Ангела образом, земнаго суща естеством» и прочее. Везде с Ангела начинается. Конечно, без того нельзя, чтобы не соображаться, но главное ведь не в житии, не в соответствии с прочим, а в красоте и сладости. Нужно, чтоб все было стройно, кратко и обстоятельно. Надо, чтоб в каждой строчечке была мягкость, ласковость и нежность, чтоб ни одного слова не было грубого, жесткого или несоответствующего. Так надо писать, чтоб молящийся сердцем радовался и плакал, а умом содрогался и в трепет приходил. В Богородичном акафисте есть слова: «Радуйся, высото, неудобовосходимая человеческими помыслы; радуйся, глубино, неудобозримая и ангельскима очима!» В другом месте того же акафиста сказано: «Радуйся, древо светлоплодовитое, от негоже питаются вернии; радуйся, древо благосеннолиственное, имже покрываются мнози!»
Иероним, словно испугавшись чего-то или застыдившись, закрыл ладонями лицо и покачал головой.
– Древо светлоплодовитое… древо благосеннолиственное… – пробормотал он. – Найдет же такие слова! Даст же Господь такую способность! Для краткости много слов и мыслей пригонит в одно слово, и как это у него все выходит плавно и обстоятельно! «Светоподательна светильника сущим…» – сказано в акафисте к Иисусу Сладчайшему. Светоподательна! Слова такого нет ни в разговоре, ни в книгах, а ведь придумал же его, нашел в уме своем! Кроме плавности и велеречия, сударь, нужно еще, чтоб каждая строчечка изукрашена была всячески, чтоб тут и цветы были, и молния, и ветер, и солнце, и все предметы мира видимого. И всякое восклицание нужно так составить, чтоб оно было гладенько и для уха вольготней. «Радуйся, крине райскаго прозябения!» – сказано в акафисте Николаю Чудотворцу. Не сказано просто «крине райский», а «крине райскаго прозябения»! Так глаже и для уха сладко. Так именно и Николай писал! Точь-в-точь так! И выразить вам не могу, как он писал!
– Да, в таком случае жаль, что он умер, – сказал я. – Однако, батюшка, давайте плыть, а то опоздаем…
Иероним спохватился и побежал к канату. На берегу начали перезванивать во все колокола. Вероятно, около монастыря происходил уже крестный ход, потому что все темное пространство за смоляными бочками было теперь усыпано двигающимися огнями.
– Николай печатал свои акафисты? – спросил я Иеронима.
– Где ж печатать? – вздохнул он. – Да и странно было бы печатать. К чему? В монастыре у нас этим никто не интересуется. Не любят. Знали, что Николай пишет, но оставляли без внимания. Нынче, сударь, новые писания никто не уважает!
– С предубеждением к ним относятся?
– Точно так. Будь Николай старцем, то, пожалуй, может, братия и полюбопытствовала бы, а то ведь ему еще и сорока лет не было. Были которые смеялись и даже за грех почитали его писание.
– Для чего же он писал?
– Так, больше для своего утешения. Из всей братии только я один и читал его акафисты. Приду к нему потихоньку, чтоб прочие не видели, а он и рад, что я интересуюсь. Обнимет меня, по голове гладит, ласковыми словами обзывает, как дитя маленького. Затворит келью, посадит меня рядом с собой и давай читать…
Иероним оставил канат и подошел ко мне.
– Мы вроде как бы друзья с ним были, – зашептал он, глядя на меня блестящими глазами. – Куда он, туда и я. Меня нет, он тоскует. И любил он меня больше всех, а все за то, что я от его акафистов плакал. Вспоминать трогательно! Теперь я все равно как сирота или вдовица. Знаете, у нас в монастыре народ все хороший, добрый, благочестивый, но… ни в ком нет мягкости и деликатности, все равно как люди простого звания. Говорят все громко, когда ходят, ногами стучат, шумят, кашляют, а Николай говорил завсегда тихо, ласково, а ежели заметит, что кто спит или молится, то пройдет мимо, как мушка или комарик. Лицо у него было нежное, жалостное…
Иероним глубоко вздохнул и взялся за канат. Мы уже приближались к берегу. Прямо из потемок и речной тишины мы постепенно вплывали в заколдованное царство, полное удушливого дыма, трещащего света и гама. Около смоляных бочек, уж ясно было видно, двигались люди. Мельканье огня придавало их красным лицам и фигурам странное, почти фантастическое выражение. Изредка среди голов и лиц мелькали лошадиные морды, неподвижные, точно вылитые из красной меди.
– Сейчас запоют Пасхальный канон… – сказал Иероним, – а Николая нет, некому вникать… Для него слаже и писания не было, как этот канон. В каждое слово, бывало, вникал! Вы вот будете там, господин, и вникните, что поется: дух захватывает!
– А вы разве не будете в церкви?
– Мне нельзя-с… Перевозить нужно…
– Но разве вас не сменят?
– Не знаю… Меня еще в девятом часу нужно было сменить, да вот, видите, не сменяют!.. А, признаться, хотелось бы в церковь…
– Вы монах?
– Да-с… то есть я послушник.
Паром врезался в берег и остановился. Я сунул Иерониму пятачок за провоз и прыгнул на сушу. Тотчас же телега с мальчиком и со спящей бабой со скрипом въехала на паром. Иероним, слабо окрашиваемый огнями, налег на канат, изогнулся и сдвинул с места паром…
Несколько шагов я сделал по грязи, но далее пришлось идти по мягкой, свежепротоптанной тропинке. Эта тропинка вела к темным, похожим на впадину, монастырским воротам сквозь облака дыма, сквозь беспорядочную толпу людей, распряженных лошадей, телег, бричек. Все это скрипело, фыркало, смеялось, и по всему мелькали багровый свет и волнистые тени от дыма… Сущий хаос! И в этой толкотне находили еще место заряжать маленькую пушку и продавать пряники!
По ту сторону стены, в ограде, происходила не меньшая суетня, но благочиния и порядка наблюдалось больше. Тут пахло можжевельником и росным ладаном. Говорили громко, но смеха и фырканья не слышалось. Около могильных памятников и крестов жались друг к другу люди с куличами и узлами. По-видимому, многие из них приехали святить куличи издалека и были теперь утомлены. По чугунным плитам, которые лежали полосой от ворот до церковной двери, суетливо, звонко стуча сапогами, бегали молодые послушники. На колокольне тоже возились и кричали.
«Какая беспокойная ночь! – думал я. – Как хорошо!»
Беспокойство и бессонницу хотелось видеть во всей природе, начиная с ночной тьмы и кончая плитами, могильными крестами и деревьями, под которыми суетились люди. Но нигде возбуждение и беспокойство не сказывались так сильно, как в церкви. У входа происходила неугомонная борьба прилива с отливом. Одни входили, другие выходили и скоро опять возвращались, чтобы постоять немного и вновь задвигаться. Люди снуют с места на место, слоняются и как будто чего-то ищут. Волна идет от входа и бежит по всей церкви, тревожа даже передние ряды, где стоят люди солидные и тяжелые. О сосредоточенной молитве не может быть и речи. Молитв вовсе нет, а есть какая-то сплошная, детски-безотчетная радость, ищущая предлога, чтобы только вырваться наружу и излиться в каком-нибудь движении, хотя бы в беспардонном шатании и толкотне.