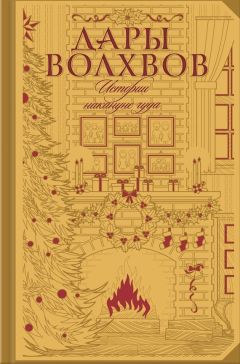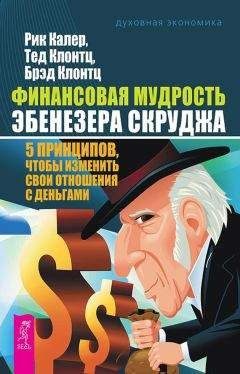А мы трое были: ваш покорный слуга, тогда помощник присяжного поверенного, один начинающий бас – теперь он мировая известность – и третий, ныне покойник, – он умер четыре года тому назад или, вернее, не умер, а его съела служебная карьера.
Ехали мы в самом блаженном, в самом радужном настроении. Накупили конфет, тортов, волшебных фонарей, фейерверков, лыж, микроскопов, коньков и прочей дряни. Были похожи на дачных мужей. Но настроение наше начало портиться уже на вокзале. Огромная толпища стояла у всех дверей, ведущих на платформу, – едва-едва ее сдерживали железнодорожные сторожа. И уже чувствовалась между этими людьми та беспричинная взаимная ненависть, которую можно наблюдать только в церквах, на пароходах и на железной дороге.
По второму звонку все это стадо ринулось на дебаркадер[62]. Опасаясь за наши покупки, мы вышли последними. Мы прошли весь поезд насквозь, от хвоста до головы. Мест не было. В третьем классе нас встретили сравнительно спокойно какие-то добродушные мужички, даже потеснились, чтобы дать нам место. Но было совсем стыдно злоупотреблять их гостеприимством. Они и так сидели друг у друга на головах. Во втором классе было почти то же самое, но уж с оттенком недружелюбия. Например, один чиновник ехал явно по бесплатному билету; я попробовал намекнуть ему, что железнодорожный устав строго требует, чтобы лица, едущие по бесплатному билету, уступали свои места пассажирам по первому требованию. Но он почему-то назвал меня нахалом и дураком и сказал: «Вы сами не знаете, с кем имеете дело». Я подумал, что это переодетый министр, и мы перешли в первый класс.
Тут нам сразу повезло. Конечно, все купе были закрыты, как это и всегда бывает, но случайно одна дверка отворилась, и один из нас, именно третий товарищ, успел просунуть руку в створку, помешав двери захлопнуться. Оказывается, в купе сидела дама, так лет тридцати – тридцати двух, прехорошенькая, но в ту секунду очень озлобленная и похожая на пороховую бочку, под которую только что подложили фитиль.
– Куда вы лезете, разве вы не видите, что это купе занято?
Ах, боже мой, все мы хорошо знаем, как нелепо, нетактично и жестоко ведут себя дамы, а особенно чиновные, в первых двух классах поездов и пароходов. Они занимают вдвоем полвагона с надписью: «Дамское отделение», в то время как в следующей половине мужчины стиснуты, как сардины в нераскупоренной коробке. Но попробуйте попросить у них гостеприимства для больного старика или утомленного дорогой шестилетнего мальчика – сейчас же крики, скандал, «полное право» и так далее. Однако такая же дама способна влезть со своими баулами, картонками, зонтиками и всякой дрянью в соседнее «мужское отделение», стеснить всех своим присутствием, заявить: «Я, знаете, не переношу дамского общества» – и завести на целую ночь утомительную трескотню, с визгом, игривым хохотом, ахами, ломаньем и кокетством, от которых наутро чувствуешь себя разбитым гораздо больше, чем тряской и бессонницей. В сопровождении бонны, кормилицы и четырех орущих чад она входит в купе, где вы сидите тихонько, с послушным, скромным ребенком, останавливается на пороге и с отвращением фыркает: «Фу! И здесь каких-то детей напихали!» Словом, все это и многое другое мы прекрасно изучили и были уверены, что никакие меры кротости, увещевания и логика не помогут, но, как и всегда, в пятисотый раз пробовали тронуть сердитую даму.
Федор Иванович приложил руку к сердцу и на самой обольстительной ноте своего изумительного голоса сказал:
– Прелестная синьора… нам только три станции… если прикажете, мы будем сидеть у ваших ног.
Это оперное вступление нас и погубило. Почем знать, если бы он был один?.. Может, она и смилостивилась бы. Но нас было трое. И, вероятно, поэтому фитиль достиг своей цели, и бочка разорвалась. Откровенно говоря, я никогда не слышал ни раньше, ни позже такой ругани. В продолжение двух минут она успела нас назвать: железнодорожными ворами, безбилетными зайцами, убийцами, которые в своих гнусных целях прибегают к хлороформу, и даже… простите, барыня… поставщиками живого товара в Константинополь.
Потом, в своем гневе, она закричала:
– Кондуктор!
Но разве мог прийти ей на помощь кондуктор? Вероятно, в эту минуту он с трудом прокладывал себе дорогу в самом заднем вагоне по человеческим головам.
Тогда, ошеломленный ее бурным натиском, я позволил себе робко спросить:
– Сударыня, вы едете одни… Может быть, вы знаете случайно, кому принадлежат вот эти вещи: четыре картонки, два чемодана, плетеная корзина, деревянная лошадь почти в натуральную величину, вот эти горшки с гиацинтами, игрушечные ружья, барабаны и сабли, этот портплед, наконец, этот торт и банки с вареньем?
– Не знаю, – сухо ответила она и отвернулась к окну.
– Сударыня, – продолжал я тоном рабской мольбы, – вы сами видите, что мы нагружены, как верблюды. Мы падаем с ног от усталости… Мы не обеспокоим вас долго своим присутствием. Всего лишь три станции… Не позволите ли вы положить эти чужие вещи наверх, в сетки? Ну, хотя бы из христианского милосердия.
– Не позволю… – ответила дама.
– Но ведь все равно вещи не ваши. Не так ли? Если бы мы сами попробовали их переместить.
Опять на нас повернулось красное, пылающее лицо.
– Ого! Попробуйте. Попробуйте только! Да вы знаете, с кем имеете дело? Нахалы! Вы сами не знаете, к кому пристаете. Я – начальница тяги! Я вас в двадцать четыре часа…
Мы не дослушали. Мы вышли в коридор для небольшого совещания. К нам присоединился какой-то милый, чистенький, маленький, серебряный старичок в золотых очках. Он все время был свидетелем наших перекоров. Он-то нам и дал один очень простой, но ехидный совет.
Когда поезд стал замедлять ход перед второй станцией и дама начала суетиться, мы торжественно вошли в купе. Старичок злорадно шел за нами.
– Итак, сударыня, вы все-таки подтверждаете, что эти вещи вам не принадлежат? – спросил третий, умерший.
– Дурак! Я вам сказала, что эти вещи не мои.
– Позвольте узнать: а чьи? – спросил старичок голосом малиновки.
– Не твое дело.
В это время поезд остановился. Вбежали носильщики. Дама велела одному из них – она даже назвала его Семеном – взять вещи.
Ну, уж тут мы горячо вступились за чужую собственность! Мы все четверо были свидетелями того, что вещи принадлежат вовсе не даме, а какой-то забывчивой пассажирке. Конечно, это дело нас не касается, но принципиально и так далее. Вчетвером мы проследовали в жандармскую контору. Дама извивалась, как уж, но мы ее взяли в настоящие тиски. Она говорила: «Да! Вещи мои!» Тогда мы отвечали: «Не угодно ли вам заплатить за все места, которые вы занимали? Железной дороге убыток, а мы, как честные люди, этого не можем допустить». Тогда она кричала: «Нет, эти вещи не мои! А вы – хулиганы!» Тогда мы говорили: «Сударыня, вы на наших глазах хотели присвоить эти вещи». – «Повторяю же вам, болваны, что это мои собственные вещи… а вы обращались с беззащитной женщиной, как свиньи!» Но тут уже выступал ядовитый старичок, пел соловьем и в качестве беспристрастного свидетеля удостоверял наше истинно джентльменское поведение, а также и то, что мы два часа с лишком стояли на ногах (воображаю, как ему в его долгой жизни насолили дамы первых двух классов!).
Кончилось тем, что она растерялась и заплакала. Ну, тут уж и мы размякли. Дали ей воды, бас проводил ее до извозчика, и дурацкий протокол был очень легко и быстро уничтожен. Один только старичок покачал укоризненно на каждого из нас головою и безмолвно испарился в темноте.
Но когда мы опять сошлись втроем на платформе и поглядели на часы, то убедились в том, что если и поспеем к Щекиным, то только к девяти часам утра. Это уже выходило за пределы нашей шутки. Стали расспрашивать у сторожа, какая здесь лучшая гостиница, то есть где меньше клопов.
И вдруг слышим знакомый, но уже теперь славный, теплый голос:
– Господа, куда вы собираетесь?
Оглядываемся. Смотрим – наша дама. И совсем новое лицо: милое русское лицо.
– Если вы не побрезгуете, поедемте ко мне на елку… Вы на меня не сердитесь… я все-таки женщина… А с этими железными дорогами просто голову растеряешь.
Скажу по правде, никогда мне не было так весело, как в этот вечер. Даже фейерверки, против обыкновения, горели чудесно. И ребята там попались чудесные. А с Анной Федоровной мы и до сих пор закадычные друзья.
Он нагнулся, чтобы его глазам не мешала тень, и спросил:
– Правда, Анна Федоровна?
Густой смеющийся голос из темноты ответил:
– Бесстыдник. Язык у вас, у адвокатов, так уж подвешен, что не можете не переврать!..
Иван Иванович Семенюта – человек вовсе не дурной. Он трезв, усерден, набожен, не пьет, не курит, не чувствует влечения ни к картам, ни к женщинам. Но он самый типичный из неудачников. На всем его существе лежит роковая черта какой-то растерянной робости, и, должно быть, именно за эту черту его постоянно бьет то по лбу, то по затылку жестокая судьба, которая, как известно, подобно капризной женщине, любит и слушается людей только властных и решительных. Еще в школьные годы Семенюта всегда был козлищем отпущения за целый класс. Бывало, во время урока нажует какой-нибудь сорванец большой лист бумаги, сделает из него лепешку и ловким броском шлепнет ею в величественную лысину француза. А Семенюту как раз в этот момент угораздит отогнать муху со лба. И красный от гнева француз кричит: