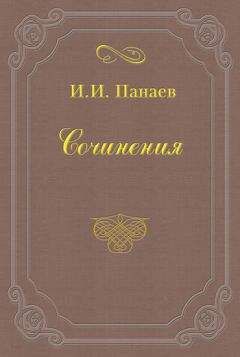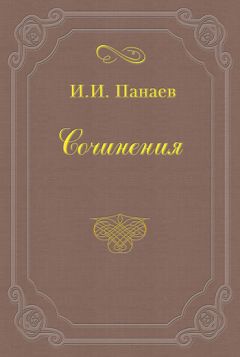– Ну, прощай, прощай, братец!
Выходя из класса, я обернулся назад. Скуляков закрыл лицо руками и прислонился к краю стола. Мне показалось, что он плакал…
Но через десять минут, на дороге из пансиона домой, я забыл о Скулякове и о всем на свете. Широкое и радостное чувство свободы эгоистически овладело мною; мне казалось, что горе, несчастие и прочее – все это людские выдумки и что жизнь – вечный праздник.
Я не предчувствовал, что готовилось для меня впереди, и едва удерживал мое нетерпение, завидев нашу дачу, наш старый дом, окруженный столетними деревьями… я был уверен, что скорее лошадей добегу до крыльца, и мне хотелось выскочить из коляски, чтобы броситься на шею к дедушке… Когда коляска остановилась, я едва мог дышать от волнения. У крыльца стояли маменька, приживалки, лакеи и горничные в ожидании меня – все, кроме моей няни, которой уже не было на свете, и дедушки.
– Где же дедушка? – было первое мое слово.
– Дедушка нездоров. Тише: он почивает, – отвечали мне.
Эти слова болезненно отозвались у меня в сердце, и я вошел в дом на цыпочках, понуря голову. Через час меня позвали к дедушке. Он улыбнулся мне, пожал мне руку своей ослабевшей рукой и произнес с усилием:
– Ну, поздравляю тебя, поздравляю…
Он велел мне сесть к себе на постель и стал смотреть на меня, держа меня за руку, с такою любовью и с такою грустью, что я зарыдал…
– Полно, голубчик! Бог даст, я еще поправлюсь. Не плачь, дружочек! – шептал мне дедушка, сам глотая слезы.
Но сердце мое говорило мне, что все кончено. Я вышел от дедушки и упал на диван, захлебываясь слезами.
К вечеру дедушке сделалось хуже, вероятно, от волнения; а через два дня после этого он лежал на столе. Он как будто заснул на минуту: так лицо его было спокойно и светло; ни одна черта его не была искажена страданием, и на губах его замерла улыбка – та симпатическая улыбка, с которою он всегда встречал меня… Неужели это смерть?..
Я стоял, пораженный этим явлением, не спуская глаз с усопшего. Мне казалось невозможным, что я уже никогда не увижу его кроткого взгляда, никогда не услышу его голоса, звучавшего любовью… Смерть! когда все кругом меня кипело жизнью, светом, радостью…
Окна комнаты, в которой дедушка был положен, выходили в сад… Солнце бросало на все ослепительный блеск, совсем поглощая свет погребальных свеч. Ветка шиповника в полном цвету врывалась в одно из окон, и однообразный, тихий голос чтеца заглушался звонким пением, свистом и чиликанием птиц.
Прошел год. Я уже привык к моей свободе. Она мне даже надоела немножко, потому что я не находил, какое употребление сделать из нее. Летищева, который уже был офицером, я видал довольно часто на Невском: то в коляске, то в дрожках на рысаках, то верхом, то на тротуаре под руку с другими офицерами. Он холодно кивал мне головою при встречах; я ему отвечал тем же. Мы нигде не сходились. Я услышал стороною, что мать его давно умерла, что все оставшееся после нее движимое и недвижимое имение отдано было за долг и что граф Каленский хотя был довольно внимателен к нему, но денег не давал. Несмотря на это, Летищев, служивший в самом дорогом полку, жил не хуже своих товарищей, которые получали большие деньги и имели в виду огромные состояния. Говорили, будто он поддерживает такое блестящее существование одними займами, распуская слухи, что он единственный наследник графа, и занимает 50 на 100, а иногда и капитал на капитал. До какой степени слухи эти были основательны, я не знал. Несомненно было только то, что Летищев проживает много, что он цветет, толстеет, сияет самодовольствием и отличается полною беспечностью.
В одно из представлений балета «Киа-Кинг» во время антракта, когда все поднялись, чья-то рука из первого ряда кресел упала на мое плечо – я сидел во втором – и знакомый звонкий, несколько пронзительный голос произнес скороговоркою:
– Здравствуй, mon cher! как я рад тебя видеть! сколько времени мы не видались!.. Где ты пропадаешь?
Это был Летищев. Я молча поклонился ему; он схватил меня за руку и крепко пожал ее.
– Да что ты, не узнаешь меня, что ли?
– Нет, узнаю, – отвечал я.
– А разве так встречаются старые товарищи? Я тебя всегда очень любил и очень, очень рад тебя видеть.
Такую внезапную горячность ко мне Летищева я не мог разгадать вдруг.
– Пойдем в буфет, – продолжал он, – мне хочется и покурить и поговорить с тобою… А ты ничего не меняешься: точно как был в пансионе.
Мы пришли в буфет.
– Ну, несравненная madame Пиацци! – сказал он, обращаясь к черноглазой и черноволосой даме, стоявшей за буфетом, – велите-ка нам подать бутылку клико, да похолоднее, и мою трубку с янтарем (тогда еще папиросы не были в употреблении) в маленькую комнату… знаете? Это мой друг, – прибавил он, указывая на хозяйку буфета, – у меня, братец, везде друзья… Это необходимо, без этого нельзя… Скорее вина…
– Да к чему? – начал было я.
– Нет, нет! ты мне уж этого и не говори, – перебил Летищев громко, обращаясь то ко мне, то к мадам Пиацци, – мы должны выпить. Встреча с тобою мне так приятна. А знаешь и, сколько мы выпили вчера с Федей Рагузинским и Броницы-ным (ты ведь его помнишь)? Ну, как ты думаешь?
– Я не знаю.
– Девять бутылок!.. по три на брата. Не глупо?
М-me Пиацци с приятностью улыбалась, слушая Летищева, и покачивала головой.
Когда в отдельную комнату мальчик принес трубки и шампанское, Летищев крикнул ему: «Ну, косой, откупори, да без шуму, и убирайся вон!» – и потом обратился ко мне, потрепав меня по плечу, и сказал:
– Сколько с того времени, mon cher, воды утекло, как мы расстались!.. Ты знаешь, что мать моя умерла… Я теперь один, вольный казак, проживаю тридцать тысяч; у меня лучшая лошадь в полку, десятитысячный жеребец… Но это все вздор! Ты знаешь, что я сделался театралом с ног до головы, вся моя жизнь здесь, на Большом театре; я не пропускаю ни одного балета. Знаешь ли, сколько раз я видел «Бронзового Коня»? – 54 раза! а послезавтра 55-е представление… Общество театралов недавно поднесло мне похвальный лист, за подписью всех своих членов, и во главе всех подписей имя нашего doyen d'age между театралами – князя Арбатова… Какой чудный человек! Что за душа! Ты не знаешь его? тебе, mon cher, непременно надо сделаться театралом… и все наши… ведь это удивительные ребята!.. Если бы ты посмотрел наши сходки: чудо!.. Мы преследуем, братец, и презираем всех этих светских франтиков, паркетных шаркунов… Из нас никто ни ногой в свет, хотя мы все имеем на это полное право… Свет, эти все дамы косятся на нас, да черт с ними!.. Что, например, выше наслаждения провожать театральные линии, видеть в окно прелестное личико с платком на голове, которое высунулось для того, чтобы взглянуть на тебя… понимаешь? Ты перекидываешься с нею несколькими словами, рискуя попасть под огромное колесище и быть расплющенным… Впрочем, у меня кучер так наловчился подъезжать близко к линии, что полоз моих саней совсем сходится вплоть с обручем колеса… и ничего, видишь, я до сих пор жив и здоров… Один раз я чуть не попал, однако, под колесо; но зато чем же я и был вознагражден за это!.. Из окна раздался голосок: «Вас задавят… ах, страсти!» И она упала, братец, в обморок: ее без чувств привезли домой. Она любит меня до безумия; а я… я уж и говорить нечего… я с ума схожу… такой девочки нет на свете другой… Что за глаза, что за бюст, какая ножка!.. Царица между всеми… И посмотри, какая у нас идет перестрелка во время представления, заметь… Все говорят, что она первая, и точно… Какой талант!.. Не правда ли?..
– Да я не знаю, о ком ты говоришь, – возразил я.
– Как? Неужели? – Летищев посмотрел на меня с удивлением и недоверчивостью. – Будто ты ничего не слыхал? Ты не знаешь, за кем я ухаживаю? Да об этом кричит весь город… И черт знает, как все это узнают, я не понимаю! Дамы в обществе об этом толкуют – ведь вот до чего дошло – ей-богу!.. Мне это ужасно неприятно: дядя на меня злится… ну, да пусть его злится… Если ты хоть раз был в балете, хоть один раз в жизни, ты должен знать Торкачеву…
– Понятия не имею, – отвечал я.
Хотя Торкачева была одна из самых хорошеньких молодых танцовщиц того времени, но мой глаз не был так опытен, чтобы отличать Торкачеву от Пряхиной, Белоусову от Каростицкой и т. д.
– Что? – с ужасом воскликнул Летищев. – Ты не знаешь Торкачевой? Ах ты, варвар!.. Послушай, ты лучше не признавайся в этом: это нехорошо, просто стыдно. Не знать Торкачевой!.. mais, mon cher, c'est impardonnable, c'est un crime… Четвертая корифейка с края с правой стороны… среднего роста, с такими огненными бирюзовыми глазками…
– А! так это она?..
– Она! она! – вскрикнул Летищев, – да вот смотри!..
Он расстегнул мундир, потом рубашку, вытащил золотой медальон, висевший на тоненькой цепочке на его груди, открыл его и показал мне ее портрет. – Не правда ли, прелесть? Не правда ли, от этакой девочки простительно с ума сойти?.. Ведь это, братец, счастье быть ею любимым?